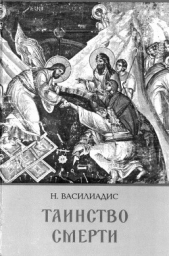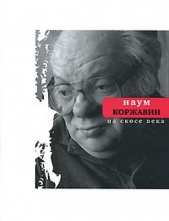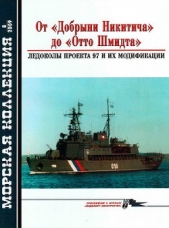Том 10. Последние желания

Том 10. Последние желания читать книгу онлайн
В настоящем томе, продолжающем Собрание сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945), публикуется неизданная художественная проза. Читателям впервые представляются не вошедшие в книги Гиппиус повести, рассказы и очерки, опубликованные в журналах, газетах и альманахах в 1893–1916 гг.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И я разорвал конверт.
Письмо было любовное.
Не знаю, сколько дней или недель я прожил в городе, и не помню, где и в какой обстановке я жил. Кажется, шторы в комнате были опущены, а я лежал в кровати и смотрел в потолок.
Потом я встал, выполз на свет, нанял лошадей и поехал в Нырки.
Я приехал вечером, но не поздно. Андрей Андреевич и Манета пили на балконе вечерний чай. Гостей не было.
Андрей Андреевич испустил несколько возгласов, но Манета встретила меня так, как будто видела вчера. Удивительнее всего было то, что и я держал себя очень естественно и развязно.
Свечи оплыли, чай убран. Темный сад чернел и серел за перилами балкона. Андрей Андреевич несколько раз зевнул, предупредил дочь, чтобы она была осторожна и не простудилась, – и наконец ушел спать. Мы с Манетой остались одни.
Конечно, я и не думал рассказать ей мой поступок. Я чувствовал себя настолько выше ее, что не удивился бы, если бы она встала на колени и целовала мои руки, умоляя о прощении.
Но если она не начнет сама, я буду молчать. Я не мог решить теперь в душе, люблю ли ее еще: ведь я ее знал… А любить, вероятно, можно одно неизвестное…
У меня был готов сорваться обыденный, полунасмешливый вопрос о чем-то, но я взглянул на Манету и невольно остановился, следя за меняющимся выражением бледного, прозрачного лица.
Губы все больше и больше раздвигались, блеснули тесные зубы, глаза сузились и потемнели – Манета беззвучно смеялась, глядя на меня неотступно холодным и острым взором. Я хотел спросить, остановить, отвести глаза, быть может, закричать на нее – и не мог. Я только произнес сдавленным голосом:
– Чему вы?
Манета продолжала беззвучно смеяться, слегка покачивая головой.
– Чему вы? – прошептал я опять.
– Я знаю… Ведь я все знаю… – ответила Манета так же тихо.
– Да это я знаю! – хотел я крикнуть, но крика не вышло: мне вдруг почудилось на мгновенье, что я – опять ничего не знаю… И я только мог шепнуть:
– Говорите…
– Смеюсь над вами… и над собой, – сказала Манета. – Вот скажу вам прямо: вы не верили тому, что я говорила вам о себе. Вы уехали, чтобы не видеть меня и Снарского вместе. Вы подумали, что я могу лгать. Все это вы от меня скрыли, говоря, что любите меня настоящей любовью – с верой. Мне нужно было убедиться в моих подозрениях. Мне нужно беспредельности в вере, как и в любви; конечно, мое испытание было не по силам вам. Письмо было дано вам нарочно, Виктор Петрович. И написано оно было нарочно. Вы не поверили моим словам – вы открыли письмо. И вы не поверили моим словам, а поверили, читая письмо, вашим глазам. Любовь не научила вас истине. И вы мне больше не нужны, Виктор Петрович. Ни вы, потому что бессильны любить, ни ваша любовь, потому что она бессильна верить… Прощайте.
Она встала, повернулась и пошла вон. На пороге остановилась вдруг и взглянула на меня, опять улыбаясь:
– А может быть, я и теперь лгу? Надо же оправдаться! Конечно, лгу. Или нет? Вот вам работа, решайте задачу! Только решайте без меня… Доброго здоровья!
Она ушла. И с тех пор я ее не видел.
Конечно, она лгала. Несколько лет минуло с нашего последнего свиданья, и я никак не мог думать иначе (да и не желаю) – она лгала. Я успел опомниться от тумана, я выздоровел, я опять прежний… Старюсь замечать в женщине только милые черты, увлекаюсь ножкой, разрезом глаз, наивностью в улыбке, красивым цветом волос… И женщины меня любят. И все ясно. Неужели это я так мучился, так унижался перед бледнолицей, некрасивой девушкой, которая требовала от меня слепой веры и небывалой любви и которая смеялась надо мною. Смеялась потому, что ведь доказано, что она лжива, ведь не могу же я сомневаться, что знаю ее неискреннюю душу?
Я так спокоен, так излечен, что даже не задумался жениться на Леночке, той самой, которая любила меня с необычайным пылом. Она красивая и горячая. Ревнует меня (и не напрасно), но я умею хоронить концы.
Как хорошо, что я опять здоров! Это было наваждение. Как хорошо, что я убедился в ее лживости! Она стала мне понятна. А я мог любить ее только непонятную. Ведь нельзя же сомневаться, что она лгала.
Или можно сомневаться?
Ночь. Леночка спит и дышит громко и однообразно. Моя свеча оплывает. При мерцающем свете я вижу чьи-то бледные и чистые глаза… Боже мой! Что со мною опять? Где моя твердость, мое знание? Что, если не она, не она – а я был во лжи?
Свеча потухла. Я больше ничего не вижу.
Последние желания *
Бледные виноградные усики щекотали лицо Нюры. Она некрасиво поморщилась, сорвала усик с досады, так что затрепетали широкие листья и уже завязавшиеся плоды – крошечные гроздья, но не переменила положения. В беседке была нестерпимая жара. Солнце желто-белыми пятнами ложилось на скамью, где лежала Нюра, на ее светлое ситцевое платье и на кокетливый наряд смуглой Маргариты.
– Вася, – крикнула вдруг Нюра своим резким, точно всегда обиженным голосом, обращаясь к мальчику лет двенадцати-тринадцати, сидевшему подле, на столе. – Сколько раз тебе говорить, что неприлично смотреть человеку в лицо два часа, как ты делаешь! Что ты с Маргариты глаз не сводишь? И еще усмехаешься глупо.
Вася вздрогнул и боязливо покосился на двоюродную сестру. Лицо у него было не по летам ребяческое, всегда встревоженное, неумное, с маленьким вздернутым носом, и выпуклыми, рыже-карими глазами, добрыми и воспаленными.
– Я что же, – сказал Вася. – Я ничего. Ты не сердись, пожалуйста, Нюра. Я о своем думал. И еще думал вот о Маргарите Анатольевне. Она мне вчера эту венгерскую песню на фортепьяно играла. Я и думал, подходит она к песне или нет.
– Вот пустяки, – сказала Маргарита.
Она улыбнулась и показала очень ровные и белые зубы. Нюра завидовала Маргаритиным зубам, потому что у нее они были редкие и некрасивой формы. Каждый раз, когда одинаковое чувство зависти кололо ей сердце, она одинаковым образом себя утешала. Зубы, положим, красивые, а все-таки Маргарите неизвестно сколько лет, может быть, двадцать семь, а может быть, и больше, а ей, Нюре, наверно, шестнадцать. И хотя эти шестнадцать лет самой Нюре не дают никакого наслаждения, но она знает, что Маргарита завидует – и рада этому.
– Папа сказал, что он тебя непременно к твоей матери отправит, если не будешь учиться, – сказала Нюра грубо, опять обращаясь к Васе. – Ты к осени хоть в прогимназию должен поступить. Ведь ты в третий класс не выдержишь! А хоть здесь и небольшая радость круглый год торчать, однако все же, я думаю, лучше, чем у твоей прелестной мамаши! Господи! Какая скука! И подумать – по крайней мере год еще здесь!
Маргарита пожала плечами.
– Возьмите серьезную книгу. Я читаю Тэна, об уме и познании. Могу вам дать первую часть. А с августа начнется сезон, нечего жаловаться на скуку.
– Сезон!
Нюра даже вскочила и села на скамейку. Ее соломенного цвета волосы с темноватыми прядями на висках растрепались; свежее, широкое лицо, с вечным выражением тупой скуки, покраснело; на него легли слабо трепещущие пятна солнца.
– Сезон, – повторила она. – А нам сезон здесь, на горе, в трех верстах от города? Как сидели три месяца, так и будем сидеть! Кто сюда зайдет, в эту глушь? Самим идти в Ялту, чтобы вернуться без сил, после подъема на наш Монблан! Даже лошади его не берут. И что за охота идти в город, где ни души не знаешь? Это вам весело, вам кажется, что всякий незнакомый франтик, если он идет по той же дороге, уже прельщен вами и преследует вас! А за мной не побегут, да и не того я желаю!
Красивое смугло-желтое лицо Маргариты нахмурилось. Она хотела ответить резко, но сдержалась и произнесла с презрительной холодностью:
– Какая вы еще девочка, Нюра! Видно, что не выезжали. Да я думаю, вам и рано. Год в глуши – если это глушь – будет вам полезен, уравновесит вас.