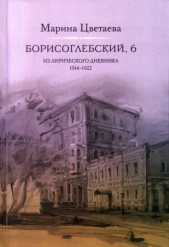Проза (сборник)

Проза (сборник) читать книгу онлайн
«Вся моя проза – автобиографическая», – писала Цветаева. И еще: «Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком». Написанное М.Цветаевой в прозе – от собственной хроники роковых дней России до прозрачного эссе «Мой Пушкин» – отмечено печатью лирического переживания большого поэта.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А вот еще, и тоже с картинкой, которую Валерия по многу раз перерисовывала акварелью в альбомы своим институтским подругам: темно-коричневая старуха с одной серьгой, в большом клетчатом, как у нашей матери, платке, а нос и подбородок сходятся так, что как раз еще успеешь просунуть нож, – Ворожея.
– Лохматая, в космотьях! – как во все горло пел Андрюша, только и ждавший, чтобы певица попала на эту строку. Пение кончалось погоней, а песня – что любит. «Да, сказал цветок ей темным, сердцу внятным языком. На устах ее – улыбка, в сердце – радость и гроза...»
Всю эту Лёрину полку я с полным упоением и совершенно всухую целый день повторяла наизусть, даже иногда, забывшись, при матери. «Что это ты опять говоришь? Повтори-ка, повтори!» – «В сердце радость и гроза». – «Что это значит?» – Я, уже тихо: «Что в сердце радость и гроза». – «Что? Что?» – мать, наступая. Я, уже совсем тихо (но твердо): «Гроза – и радость». – «Какая гроза? Что значит – гроза?» – «Потому что ей страшно». – «Кому ей?» – «Которая подошла к старушке, потому что старушка – страшная. Нет, это старушка – подошла». – «Какая старушка? Ты с ума сошла!» – «Из Лёриной песни. Одна барышня обдирала маргаритку и вдруг видит: старушка – с палкой... Это называется „Ворожея“ (ударяю на предпоследнем слоге). Мать, так же: „А что значит Ворожея“?» – «Я не знаю». Мать, торжествующе: «А, вот, видишь, не знаешь, а говоришь! Я тебе тысячу раз говорила, чтобы ты не смела читать Лёриных нот. Не могу же я, наконец, от нее и этажерку запирать на ключ!» – мать, торопливо проходящему с портфелем в переднюю, внимательно-непонимающему отцу. Пользуясь отводом, скрываюсь в недосягаемость лестницы, но уже с половины ее: «На устах ее улыбка, в сердце радость и гроза... Та-та, та-та, та-та, та-та... Он глядит в ее глаза...» – Так, из-под самого метронома, из-под самого его, полированного, носа лились на меня потоки самой бестактной лирики. А иногда я, застигнутая, просто – врала. (До четырех лет я, по свидетельству матери, говорила только правду, потом, очевидно, спохватилась...) «Что ты опять тут делаешь?» – «Я смотрю на метроном». – «Что значит „смотрю на метроном“?» Я, с противоестественным восторгом: «Он такой красивый! (Пауза и, ничего не найдя): Желтый!» Мать, уже смягченная: «На метроном нужно не смотреть, а слушать». Я, уже на верху спасательной лестницы, разрываясь между желанием и ужасом быть услышанной, громким, но шепотом: «Мама, а я в Лёриных нотах рылась! А метроном – урод!»
К Лёриному репертуару относились еще все ноты ее матери, все эти оперы, и арии, и аранжировки, тоже со словами, но непонятными (пению училась в Неаполе) и с подавлявшим меня количеством ненавистных мне надлинейных трижды и четырежды перечеркнутых нот. «Нувеллист» же я, за детскую простоту нотного начертания, полную его доступность моей детской несостоятельности – презирала: столько белых и никаких перечерков, – точно взяли один материнский нотный лист и рассыпали (как кур кормят!) на целый год «Нувеллиста», – так, чтобы на каждую страницу хоть немножко попало, – почти что мой «Леберт и Штарк», – только с педалью. Педаль мне, кстати, была строго воспрещена. «От земли не видать, а уже педаль! Чем ты хочешь быть: музыкантом или (проглатывая „Лёру“)... барышней, которая, кроме педали да закаченных глаз... Нет, ты сумей рукой дать педаль!» Давала – ногой, но только в отсутствие матери, но зато так подолгу, что уже не понимала: уже я (гужу) или – еще педаль? (представлявшаяся мне, кстати, золотой туфелькой – Plattfuss [143] – Золушки!). Но у педали была еще одна – словесная родня: педель, педель студенческих сходок, педель, забравший на сходке нашего с Асей до собачьего вою любимого Аркадия Александровича (Аркаэксаныча), Андрюшиного репетитора. Педелем вызвано второе мое в жизни стихотворение:
Педель, мнившийся мне огромным, выше всего этого двора, и забирающий студентов (Аркаэксанычей) свыше, огромной раскоряченной лапой, как Людоед – мальчиков с пальчиков. Людоед – но так как это все-таки университетский служитель – то весь в медалях. И, конечно, такой же один, как педали – две. Но, назвав педеля, не могу не упомянуть его словесной родни: пуделя, белого ученого Капи из «Sans Famille», который рвет педеля за панталоны – тогда педель Аркаэксаныча выпускает, – и их общей, педеля и педали, словесной родни, двоюродной сестры падали, той падали, которой пахнет – одну секунду – и каждый раз – и безумно сильно – в бузине, у самого подступа к нашей тарусской даче, падали, от детства и Тарусы такой родной и мной-самой, что каждый раз, как это слово слышу – оборачиваюсь.
Но возвратимся на мой мученический табурет. Табурет был, как все, должно быть, но я-то тогда не знала, что все такие, и даже не знала, что есть еще такие, это был табурет, вещь в доме без себе подобных, магическая, ибо из всех вещей именно она требовала, чтобы я сидела смирно, а сама – вертелась! На своей рубчатой шее, так напоминавшей ощипанную индюшачью. Вывернешь ее до предела и ждешь не без волнения, что вот «голова», ослабнув, качнется и совсем отвалится. Но помню и отвал другой головы – собственной, когда, вжавшись руками в сидение и ногами помогая, обмирая от близящейся сладкой тошноты, не раз, не два, а весь винт ввысь и затем вниз – до отрыва головы, рвущейся с шеи, как шар с крутимой палки. «А-а-а! опять завертелась! – тихо вошедший и безмолвно наблюдавший Андрюша, с злорадством глядя на мое зеленое лицо. – Давай перочинный нож, а то маме скажу, как ты тут без нее своих Лебертов и Штарков играешь. (Пауза.) Дашь нож?» – «Нет». – «Так вот тебе Леберт! – Так вот тебе Штарк!» И, уверяю, удар был вовсе не staccat'ный.
Андрюша на рояле не учился, потому что был от другой матери, которая пела, и вышло бы вроде измены: дом был начисто поделен на пенье (первый брак отца) и рояль (второй), которые иногда тарусскими поздними вечерами и полями в двухголосом пении, Валерии и нашей матери – сливались. Но как сейчас слышу материнское сдавленно-исступленное «ох» в ответ на Валериино, часами, «подбиранье» и «напеванье», как сейчас вижу искажение всего ее лица и рук на каком-нибудь особенно-выразительном, при помощи педали, аккорде, или на особенно-высокой, при помощи полузакрытых глаз и вертикального подбородка, ноте, за которой вот-вот начнется тот ужасный безголосый сухо-горловой крик, сравнимый по нестерпимости только с внезапно ожившим и заигравшим под языком зубным нервом, – крик, за который можно убить.
Но, возвращаясь к совершенно непричемному, непевшему и неигравшему Андрюше: Андрюшиному роялю воспротивился сам его дед Иловайский, заявивший, что «Ивану Владимировичу в доме и так довольно музыки». Бедный Андрюша, затертый между двумя браками, двумя роками: петь мальчиков не учат, а рояль – мейновское (второ-женино). Бедный Андрюша, на которого не хватило: – ушей? свободной клавиатуры? получаса времени? просто здравого смысла? чего? – всего и больше всего – слуха. Но вышло как по-писаному: ни из Валерииных горловых полосканий, ни из моего душевного туше, ни из Асиных «тили-тили» – ничего не вышло, из всех наших дарований, мучений, учений – ничего. Вышло из Андрюши, отродясь не взятого на наш горделивый музыкальный корабль, попавшего в нашем доме в некое междумузыкальное пространство, чтобы было гостям и слугам, а может быть, и городовому за окном – на чем отдохнуть: на его немоте. Но по-особому вышло, и двойной запрет сбылся: ни петь, ни играть на рояле он не стал, но, из Андрюши став Андреем, сам, самоучкой, саморучно и самоушно, научился играть сначала на гармонике, потом на балалайке, потом на мандолине, потом на гитаре, подбирая по слуху – все, и не только сам научился, еще и Асю научил на балалайке, и с большим успехом, чем мать на рояле: играла громко и верно. И последней радостью матери была радость этому большому красивому, смущенно улыбающемуся неаполитанцу-пасынку (оставленному ею с гимназическим бобриком), с ее гитарой в руках, на которой он, присев на край ее смертной постели, смущенно и уверенно играл ей все песни, которые знал, а знал – все. Гитару свою она ему завещала, передала из рук в руки: «Ты так хорошо играешь, и тебе так идет...» И, кто знает, не пожалела ли она тогда, что тогда послушалась старого деда Иловайского и своего молодого второ-жениного такта, а не своего умного, безумного сердца, то есть забывши всех дедов и жен: ту, первую, себя, вторую, нашего с Асей музыкального деда и Андрюшиного исторического, не усадила: меня – за письменный стол, Асю – за геркулес, а Андрюшу – за рояль: «До, Андрюша, до, а это ре, до – ре...» (из которого у меня никогда ничего не вышло, кроме Doré, Gustav'a...).