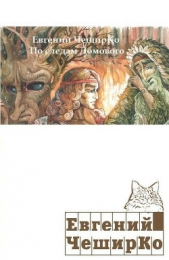Записки домового (Сборник)

Записки домового (Сборник) читать книгу онлайн
Сборник представляет фантастическую прозу русского писателя, журналиста, востоковеда Осипа Ивановича Сенковского (1800–1858). В него вошли повести «Большой выход у Сатаны», «Ученое путешествие на Медвежий остров», «Записки домового» и другие произведения этого самобытного автора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Оставив тело читателя, я сбиралась лететь на Эльбурдж, как вдруг была поймана блаженною Маньджушри, которая вбила меня в ученого. Никогда еще не проводила я времени так скучно, как в голове этого человека. Я здесь нашла даже менее для себя занятия, чем в дураке. Ученый муж никогда не вспомнил и не подумал обо мне. Он только набивал свою голову сведениями и свой желудок пищею; желудок не варил пищи, я не могла укусить вязких и безвкусных сведений. Не понимаю, на что и посылать нас в ученых!.. У них довольно было бы повесить на мозгу гири, как в стенных часах, и он ходил бы прекрасно, наматывая на органы бесконечные сведения и качая память наподобие маятника. Один только раз во всю жизнь зашевелилась я в его голове. Несколько человек спорили о науках, и мой ученый стал жарко доказывать необыкновенную важность и пользу предмета, которым исключительно занимался. Наскучив всегдашним молчанием, я вздумала вмешаться в разговор: схватила совесть моего ученого мужа и уже хотела вскричать: «Господа! не слушайте его, он врет!.. Вот собственная его совесть: спросите у нее. Она вам скажет, что и сам он не верит пользе предмета, в котором роется сорок лет!» — Но мой ученый остановил меня на первом слове. Он убедительно просил меня молчать, не делать глупостей, не компрометировать его и его науки и не обнаруживать этой великой тайны, по крайней мере, до тех пор, пока выслужит он себе полный пенсион: тогда позволит он мне высказать откровенно мое мнение о пользе его предмета и даже сослаться в том на его совесть. Я замолчала и легла спать на сведениях.
Спустя два года принесли ему какую-то старинную оборванную книгу, которая, к удивлению, не была ему известна. Он чуть не сошел с ума, достав ее в свои руки, бросился на нее с жадностью голодного обжоры и навалил из нее в свою голову такую кучу засаленных, затхлых сведений, что для меня не осталось ни уголка места. Я поневоле должна была выскочить на чистый воздух. Он умер в то же мгновение ока. Я уже не хотела более возвращаться в голову, стряхнула с себя горькую пыль учености, счистила плесень старых сведений, проветрилась и пустилась в путь на Эльбурдж.
Блаженная Маньджушри тотчас приметила, что я ускользнула из головы ученого ведомства. Она погналась за мною. Я бросилась бежать стремглав от ее когтей. Она употребила всю свою быстроту, настигла меня почти у самой горы, поймала горстью и опять потащила на землю. Я пищала в ее руке, просилась, заклинала ее отпустить меня в суд, говорила, что не хочу быть ученою, что надеюсь быть собакою, что это ужасно — лишать бедные души приобретенных ими заслуг. Маньджушри не обратила никакого внимания на мои жалобы и всунула меня в поэта. Для душ самое опасное дело попасться в ученый приход: это настоящий ад!..
Я была в отчаянии, когда увидела голову, в которой велели мне обитать. Все органы в расстройстве, мозг вверх дном, умственные способности перебиты, перемешаны, разбросаны. Как жить в этакой голове!.. Но что всего более удивило меня во внутреннем ее устройстве, чего не видала я ни в каком другом мозгу, — это чудная оковка понятий: на кончике всякой мысли была насаженная острая чугунная стрелка форменного вида: по-монгольски эти стрелки называются «рифмами». Когда пришлось действовать, я не знала, на что решиться. Которым ни закручу органом, которую ни трону пружину, вдруг летят, прыскают, сыплются такие странные мысли, что — хоть уходи вон из головы!.. Мне стало страшно смотреть, когда этот человек начал еще списывать на бумагу всю эту чуху: я была уверена, что нас сошлют в дом сумасшедших. Списав, он еще разделил ее на коротенькие строчки, ко всякой строчке приплел по одному понятию с форменною риторическою иконкой и пустил ее в свет в этом виде. Будет беда!.. — подумала я себе. Но вышло напротив: людям это очень понравилось. Они даже сказали, что весь этот вздор напорола я, что я отразилась в нем, как в зеркале, что, судя по этому вздору, я должна быть удивительна, пылка, сильна, прекрасна!.. Много чести! — я от ней отказываюсь. Эти суждения они по-татарски называли «критикою». Быть может, что это «критика»: я по-татарски не знаю. Знаю лишь то, что о подобных вещах, не понимая великой тайны перерождения, судить невозможно. Ах! если б те, которые пишут критики стихов, имели счастие быть хоть калмыками!..
Правда, этот человек мучил меня ужасно: дразнил меня, тормошил, рвал, выжимал из меня всю чувствительность, жарил меня на огне раздутых мехами страстей, потом купал в чернилах и все просил у меня новых мыслей. Иногда я кое-что ему и подшептывала, но он, распирая мои вдохновения на бумаге своими чугунными стрелками, перетыкая их условными своими понятиями, подбавляя к ним тьму пустых слов и рубя, кроша все это в метрическую окрошку, совершенно уничтожал мое дело и заменял его своим искусством. А люди все говорили, что это бесподобно, что это наверное я диктую ему такие удивительные вещи! Толкуй же с ними!.. Клянусь честию, моего тут не было и на копейку.
Но видя, что люди такие неугомонные охотники до этой шинкованной чепухи, я перестала совеститься и принялась ворочать изо всей силы рукоятку испорченной умственной машины моего поэта. Ее колеса, жужжа, вертелись каждое в свою сторону, задевались, лопались, засыпали все здание черепа своими осколками. Я не обращала на это внимания. Они ломались, я ворочала; ворочала еще скорее и, наконец, совершенно расстроила его голову. Но зато в короткое время я намолола несколько кулей презабавных мыслей — таких дивных, таких небывалых, острых, рогатых, уродливых, что если б великий Шеккямуни их увидел, он как раз подумал бы, что это опилки греха, и прогнал бы меня в ад. К счастию, он их не приметил, ибо люди мигом расхватали их с неимоверною жадностию, выучили наизусть, стали повторять на торжествах и пирах и не находили слов для выражения своего восторга. Я убедилась, что люди выше всего ценят такие игрушки, которые издают шумные звуки. Одна только вещь удивляла меня в этом случае: почему они, тешась, как мальчики, вырвавшиеся из юрты учителя, погремушками, которые этот человек для них делал, превознося его за то похвалами, называя гением, существом высшего разряда, почти равным великому Шеккямуни, жестокосердно отказывали ему в просьбе о куске хлеба и оставляли его в нищете?.. Но в то самое время, когда думала я о людях, нищете и погремушках, раздался подле меня страшный громовый треск, и голова, в которой преспокойно рассуждала я сама с собою, развалилась, как разраженный о камень арбуз. Я выскочила из нее в ужасном испуге и только тогда увидела, что мой поэт выстрелил себе в лоб из какой-то коротенькой свирели. Он упал на землю; я, покрытая славою, подобно светлому метеору, рисующему огненную черту по лазури полночного неба, взлетела за облака в венце ярких, нетленных лучей.
В этот раз я как-то избавилась преследования бессовестной блаженной Маньджушри и счастливо прибыла на Эльбурдж. Недалеко от Хормуздова судилища попалась мне навстречу одна знакомая душа, с которою некогда были мы большие приятельницы. Она завела разговор по-монгольски.
— Менду амор!
— Менду амор!
— Откуда ты, любезнейшая?
— Из поэта. А ты откуда?
— Вестимо, от Хормузды. Была в мудреце; хотела в собаку; взяли в депутаты. Меня — знаешь! — посылают в законодатели по выборам… Что это у тебя сияет так прекрасно?
— Ничего!.. Так!.. Слава.
— Ах, какая хорошенькая вещица!.. Откуда ты ее достала?
— Люди дали, вместо сострадания, которого требовал от них поэт — видно потому, что она дешевле и почти ничего им не стоит.
— Однако ж, хоть дешева, да очень мила!.. Какой блеск!.. Подари мне ее. Не то поменяйся со мною.
— Что же ты мне дашь?
— Дам тебе свой ум: видишь, какой славный, крепкий, прочный, основательный! Я — знаешь! — была в необыкновенном мудреце и ужасно много нажила себе у него ума, который называл он своим невещественным капиталом. А сколько промотали мы с ним этого капиталу по предисловиям, по передним, по пустякам!.. Возьми, душенька, его: он некрасив, без блеска, но он тебе пригодится.