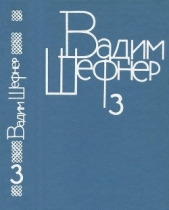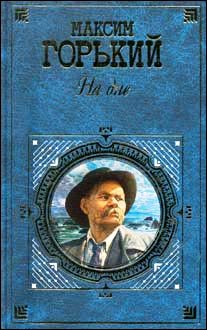Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917

Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917 читать книгу онлайн
В десятый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1910–1917 годах. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «Сказки об Италии», «Романтик», «Жалобы», «Мордовка», «Н.Е. Каронин-Петропавловский», «Три дня», «Случай из жизни Макара», «Русские сказки». Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. Большая часть их в последний раз редактировалась писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов.
Остальные произведения включаются в собрание сочинений впервые. За немногими исключениями эти произведения М. Горький повторно не редактировал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Еду я с ней по Сибири — смотрю, какой хороший, серьёзный народ! Немножко печальны, подавлены — это допустимо, это естественно, я понимаю, бог мой! Обо всём, что касается деревни, судят резонно, ясно, с глубоким знанием дела. Но! Сейчас же является эта окаянная петля, это кольцо — чёрт его знает, что оно такое — нигилизм, фатализм восточный? Жалуется мужик — овраги одолели, рвут и рвут пашню. Укрепи! Да как его укрепишь? Научись! Молчат. Вздыхают.
— В вагоне грязно, накурено, насорено — если не указать на это, они не видят, расковыривают зачем-то скамьи, соскребают со стен краску, плюют куда попало. Отношение ко всему — мерзейшее: на станциях отламывают крышки кадок с водой, чёрт знает зачем хлопая ими во всю силу; ломают деревья, гадят везде безобразно и вообще имеют вид чужих людей в чужой земле. Так себе — проезжают мимо. Мимо! Дорогой приходилось разговаривать с ними и, знаете, хотелось! Ведь с этими людьми назначено мне жить и умирать, я должен руководить ими в борьбе против врага и прочее… До некоторой степени я зависим от них. «Итак, ребята, говоришь им, мы едем защищать Россию». Смотрят внимательно, а глаза — чужие, и нельзя понять, что, думают эти люди. «Вы понимаете — что такое Россия, родина?» — «Так точно», — говорят некоторые. «Что же такое родина, Швецов?» — это тот самый новгородский, голубоглазый. Надо вам сказать, что он сел мне в голову сразу и глубоко… да я уж говорил это! «Ну, Швецов?» — «Никак нет, ваше благородие!» — отвечает он — правдиво говорит, чёрт побери, сразу видно, что от души. Надо объяснять. А признаться, я сам до той поры об этом предмете не думал: Россия, ну и чудесно! Границы такие-то, царствующий дом, армия и прочее. Не более. Но о том, что армия из народа выцежена, и о том, что такое этот народ по своему духовному строю, — не приходилось думать… «Русский народ добродушен и белокур» — это я, конечно, знал, но что он не весь белокур и не совсем добродушен, это мне не приходило в голову. Чудесно. И вот, сидя на станции в ожидании дальнейшего движения, веду я речь о России, о её целях в Тихом океане — газеты я читал и насчёт Тихого океана что-то знал тогда. Говорю-с. Кончил. «Поняли?» — «Так точно, ваше благородие!» — отвечают мне эти русские люди, которым необходимо выйти на берега Тихого океана, отвечают — дружно, а я вижу, что — врут: ничего не поняли и нимало не интересно им всё это. Швецов этот, так он, знаете, демонстративно ничего не понял: прижимает меня голубыми глазами своими в угол и, видимо, что-то хочет спросить, но — не решается, что ли. «Ты понял, Швецов?» — «Никак нет». — «Почему?» — «Так что, ваше благородие, ежели взять всю землю, как волость, примерно, то хоша деревни разные, однакож мужики везде одинаковы, и все, стало быть, вроде как шабры на земле, а ежели деревня против деревни в колья пойдёт, то, надо думать, никакой жизни и выгоды никому не будет, а только драка и кровопролитие…» Ох!
Офицер схватился за голову и, качаясь, застонал.
— Ну — глупо же! Может быть, с вашей точки зрения но… очень добродушно и по-христиански, но ведь дико же это! Мертво это! Врёт ведь, чёрт его дери, — пойдёт он в колья, ходил ведь против шабров и — пойдёт… И я вижу, что его — понимают, а на меня смотрят так, как будто хотят сказать: «Что, брат? Ну-ка?» Чужие, чужими глазами смотрят — желал бы я вам это почувствовать. Да-с! Но — бросим это, бросим! Я скоро прекратил свои беседы, потому что однажды слышу — говорят про меня эти люди:
— Ничего он, так себе, только — вот душу вытягивать любит. Присосётся и — сверлит языком, и сверлит! «Чёрт вас побери», — думаю. Да…
— Другой раз, во время стоянки, вижу — собралась кучка моих ребят, в середине — Швецов, на ладони у него — земля, он растирает её пальцами, нюхает, словно старуха табак, и говорит какие-то корявые слова. В чём дело? «А вот, ваше благородие, Швецов насчёт состава земли разъясняет». — «Что ты тут разъясняешь?» Он спокойно — спокойно! — начинает говорить незнакомыми мне словами о землице, которая как-то там землится, о землистой земле, о землеватости, и все с ним соглашаются, а я ничего не понимаю, и все это видят. Начинаю я свою речь о необходимости защиты земли, боя за землю, а они мне: «Мы, говорят, за неё, ваше благородие, всю жизнь бьемся, мы её защищать готовы!» Выходило смешно, жалко и досадно.
— Одним словом, мне вскоре стало совершенно ясно, что я еду драться, с людьми, которые не понимают, зачем нужно драться. Я должен внушить им боевой дух… должен! Они же не верят ни единому слову моему, и как будто в глубине души каждого живёт убеждение, что эта война — мною начата, мне нужна, а больше — никому. Иногда очень хотелось орать на них. А главное — этот спокойный Портнов… Швецов — смотрит и — молчит. Молчит, но рожа такая — на всё готовая: я, дескать, всё сделаю по твоему приказанию, всё, что хочешь, но мне — ничего не надо, я ничего не знаю, и отвечай за меня — ты сам.
— И вот с этими на всё по чужому приказанию готовыми людьми попал я в свалку: наш батальон прикрывал отступление из-под Мукдена, сижу я со своей ротой в кустах и ямах на берегу какой-то дурацкой речки; вдали, по ту сторону, лезут японцы — тоже очень спокойные люди, но — с ними спокойствие сознания важности того, что они делают, а мы понимаем свою задачу как отступление с наименьшими потерями.
— Береги патроны, — говорю я своим. Берегут. Оборванные, грязные, усталые, невыразимо равнодушные, лежат и смотрят, как там враг перебегает поле цепь за цепью, быстро и ловко, точно крысы… Где-то сзади нас действует артиллерия, справа бьют залпами, скоро и наша очередь, дьявольский шум, нервы отупели, голова болит, и весь сгораю, медленно и мучительно поджариваясь, в эдакой безысходной, ровной, безнадёжной злобе.
— Сзади меня убедительно спокойный голос Швецова слышу: «Народ — лёгкий, снаряжение хорошее, а главнейше — свои места, всё наскрозь они тут знают, каждую яму, всякий бугорок — разве с ними совладаешь? И опять — на своём месте человек силен, на своём-то, на родном, он — неодолим, человек этот!» Люди сочувственно крякают и сопят, слушая его рассуждения.
— Ну, знаете, я сказал этому господину, что если он не перестанет, так я его — и приставил к деревянной роже револьвер. А он вытаращил голубые свои глаза по обеим сторонам дула и говорит:
— Зачем же вашему благородию трудиться, меня и японец убьёт!
— Стало мне стыдно, что ли… и не знал бы я, как выйти из дурацкого положения, но тут явился приказ — отойти нам глубже. Отошли, как и пришли, без выстрела, и вообще мы — моя рота — некоторое время играла странную роль: всё водили нас с места на место, точно речи Швецова были известны высшему начальству, и оно, понимаете, заботилось поставить роту именно туда, где бы мои ребята почувствовали себя на своём месте. Ходим голодные, оглушённые, усталые, видим, как летают казаки, прыгает артиллерия, едут обозы Красного креста… Хорошо-с!
— Ночь пришла. Лежим в каких-то холмах, а на нас — лезут японцы. Лезут как будто не торопясь, но — споро, отовсюду, без конца. И вот вижу — это, знаете, как сон было: идёт полем к нам какая-то часть, а на правом фланге её вдруг вспыхивает огонёк, и я с ужасом вижу — освещённое этой вспышкой круглое монгольское лицо, — курит, дьявол! Зачем он закурил — я не знаю, было ли это сделано, чтобы доказать своим солдатам — вот, мол, как и храбр, или он обалдел от страха, но — курит! Со всех сторон жарят залпами, моя рота тоже, конечно, а эти идут, и, знаете, страшно медленно шли они, как мне казалось, изумительно! Как будто они там все знают, что их дело верное, беспроигрышное дело и торопиться — некуда. Конечно, на самом деле было иное, но мне так казалось, говорю я. И эта дьявольская папироса там, в темноте, горит, вспыхивает так ровно, уверенно и спокойно — видно, что она доставляет удовольствие человеку. В неё стреляют, и я советую — ниже брать, чтобы в грудь, в живот ему всыпалось несколько штучек, — идёт! И видно — докурил, бросил в сторону, кругло эдак очертилась в воздухе огненная полоска. Вам это кажется несерьёзным, пустяками, ну — да, оно и несерьёзно, незначительно, оно просто указало мне, что я — не закурил бы перед тем, как скомандовать в штыки. У меня нет спокойствия, необходимого для того, чтоб покурить перед смертью, нет уверенности, что… д-да… Я — чужой своим людям, и ни страх пред смертью, ни что другое не связывает их со мною. Мы — люди разных племён по духу, они — солдаты, я — их начальник, больше ничего. Я их не понимаю, они — меня, нам друг друга не жалко, мы — сказать правду — не любим и немножко боимся друг друга…