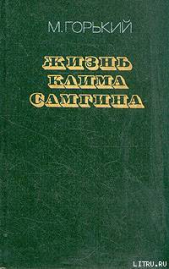Том 19. Жизнь Клима Самгина. Часть 1

Том 19. Жизнь Клима Самгина. Часть 1 читать книгу онлайн
В девятнадцатый том собрания сочинений вошла первая часть «Жизни Клима Самгина», написанная М. Горьким в 1925–1926 годах. После первой публикации эта часть произведения, как и другие части, автором не редактировалась.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ночь была холодно-влажная, черная; огни фонарей горели лениво и печально, как бы потеряв надежду преодолеть густоту липкой тьмы. Климу было тягостно и ни о чем не думалось. Но вдруг снова мелькнула и оживила его мысль о том, что между Варавкой, Томилиным и Маргаритой чувствуется что-то сродное, все они поучают, предупреждают, пугают, и как будто за храбростью их слов скрывается боязнь. Пред чем, пред кем? Не пред ним ли, человеком, который одиноко и безбоязненно идет в ночной тьме?
Глава 3
О Петербурге у Клима Самгина незаметно сложилось весьма обычное для провинциала неприязненное и даже несколько враждебное представление: это город, не похожий на русские города, город черствых, недоверчивых и очень проницательных людей; эта голова огромного тела России наполнена мозгом холодным и злым. Ночью, в вагоне, Клим вспоминал Гоголя, Достоевского.
Он приехал в столицу, решив держаться с людями осторожно, уверенный, что они тотчас же начнут испытывать, изучать его, заражать своими верованиями.
Густой туман окутывал город, и хотя было не более трех часов пополудни, Невский проспект пытались осветить радужные пузыри фонарей, похожих на гигантские одуванчики. Липкая сырость увлажняла кожу лица, ноздри щекотал горьковатый запах дыма. Клим согнул шею, приподнял плечи, посматривая направо и налево в мокрые стекла магазинов, освещенных внутри так ярко, как будто в них торговали солнечными лучами летних дней. Непривычен был подавленный шум города, слишком мягки и тупы удары лошадиных копыт по деревянной мостовой, шорох резиновых и железных шин на колесах экипажей почти не различался по звуку, голоса людей звучали тоже глухо и однообразно. Странно было не слышать цоканья подков по булыжнику, треска и дребезга пролеток, бойких криков разносчиков. И нет колокольного звона.
По панелям, смазанным жидкой грязью, люди шагали чрезмерно торопливо и были неестественно одноцветны. Каменные и тоже одноцветные серые дома, не разъединенные заборами, тесно прижатые один к другому, являлись глазу как единое и бесконечное здание. Его нижний этаж, ярко освещенный, приплюснут к земле и вдавлен в нее, а верхние, темные, вздымались в серую муть, за которой небо не чувствовалось.
Среди этих домов люди, лошади, полицейские были мельче и незначительнее, чем в провинции, были тише и покорнее. Что-то рыбье, ныряющее заметил в них Клим, казалось, что все они судорожно искали, как бы поскорее вынырнуть из глубокого канала, полного водяной пылью и запахом гниющего дерева. Небольшими группами люди останавливались на секунды под фонарями, показывая друг другу из-под черных шляп и зонтиков желтые пятна своих физиономий.
Быстрая походка людей вызвала у Клима унылую мысль: все эти сотни и тысячи маленьких воль, встречаясь и расходясь, бегут к своим целям, наверное — ничтожным, но ясным для каждой из них. Можно было вообразить, что горьковатый туман — горячее дыхание людей и все в городе запотело именно от их беготни. Возникала боязнь потерять себя в массе маленьких людей, и вспоминался один из бесчисленных афоризмов Варавки, — угрожающий афоризм:
«Большинство людей обязано покорно подчиняться своему назначению — быть сырым материалом истории. Им, как, например, пеньке, не нужно думать о том, какой толщины и прочности совьют из них веревку и для какой цели она необходима».
«Напрасно я уступил настояниям матери и Варавки, напрасно поехал в этот задыхающийся город, — подумал Клим с раздражением на себя. — Может быть, в советах матери скрыто желание не допускать меня жить в одном городе с Лидией? Если так — это глупо; они отдали Лидию в руки Макарова».
Думать мешали напряженно дрожащие и как бы готовые взорваться опаловые пузыри вокруг фонарей. Они создавались из мелких пылинок тумана, которые, непрерывно вторгаясь в их сферу, так же непрерывно выскакивали из нее, не увеличивая и не умаляя объема сферы. Эта странная игра радужной пыли была почти невыносима глазу и возбуждала желание сравнить ее с чем-то, погасить словами и не замечать ее больше.
Клим снял запотевшие очки, тогда огромные шары жидкого опала несколько обесцветились, уплотнились, но стали еще более неприятны, а огонь, потускнев, ушел глубже в центры их. Избитое сравнение Варавки «город — улей» не годилось. Более удачно гасились эти призрачные огни словами большеголового составителя популярно-научных книжек; однажды во флигеле у Катина он пламенно доказывал, что мысль и воля человека — явления электрохимические и что концентрация воль вокруг идеи может создавать чудеса, именно такой концентрацией следует объяснить наиболее динамические эпохи: Крестовые походы, Возрождение, Великую революцию и подобные взрывы волевой энергии.
На Сенатской площади такие же опаловые пузыри освещали темную, масляно блестевшую фигуру буйного царя, бронзовой рукою царь указывал путь на Запад, за широкую реку; над рекою туман был еще более густ и холодней. Клим почувствовал себя обязанным вспомнить стихи из «Медного всадника», но вспомнил из «Полтавы»:
Затем память почему-то подсказала балладу Гёте «Лесной царь»:
Подковы лошади застучали по дереву моста над черной, тревожной рекой. Затем извозчик, остановив расскакавшуюся лошадь пред безличным домом в одной из линий Васильевского острова, попросил суровым тоном:
— Прибавить надо, баринок!
«Почему же баринок?» — подумал Клим и не прибавил извозчику.
Старенький швейцар с китайскими усами, с медалями на вогнутой груди, в черной шапочке на голом черепе деловито сказал:
— Квартира Премировой — второй этаж, четыре. И, пошевелив красными ушами, ткнул пальцем куда-то в угол, а по, каменной лестнице, окрашенной в рыжую краску, застланной серой с красной каемкой дорожкой, воздушно спорхнула маленькая горничная в белом переднике. Лестница напомнила Климу гимназию, а горничная — фарфоровую пастушку. Легким голосом она сказала:
— Ваша комната направо по коридору, первая дверь, комната брата вашего — направо угловая.
— Брата? — изумленно спросил Клим.
— Дмитрия Ивановича, — как бы извиняясь, сказала горничная, схватив в руки два чемодана и вытягиваясь между ними. — Ведь вы — господин Самгин?
— Да, — угрюмо ответил Клим, соображая: почему же мать не сказала, что он будет жить в одной квартире с братом?
Не заходя в свою комнату, он сердито и вызывающе постучал в дверь Дмитрия, из-за двери весело крикнули:
— Пожалуйста!
Дмитрий лежал на койке, ступня левой ноги его забинтована; в синих брюках и вышитой рубахе он был похож на актера украинской труппы. Приподняв голову, упираясь рукою в постель, он морщился и бормотал:
— Это… это Клим? Ты?
И, протянув руки брату, весело крикнул:
— Ага, вот он, сюрприз!
Самгин видел незнакомого; только глаза Дмитрия напоминали юношу, каким он был за четыре года до этой встречи, глаза улыбались все еще той улыбкой, которую Клим привык называть бабьей. Круглое и мягкое лицо Дмитрия обросло светлой бородкой; длинные волосы завивались на концах. Он весело и быстро рассказал, что переехал сюда пять дней тому назад, потому что разбил себе ногу и Марина перевезла его.
— Она давно уже пугала меня: ждите сюрприза! Кто — Марина? Племянница Премировой. Тетка тоже милая, либералка; она в дальнем родстве с Варавкой.
Оживление Дмитрия исчезло, когда он стал расспрашивать о матери, Варавке, Лидии. Клим чувствовал во рту горечь, в голове тяжесть. Было утомительно и скучно отвечать на почтительно-равнодушные вопросы брата. Желтоватый туман за окном, аккуратно разлинованный проволоками телеграфа, напоминал о старой нотной бумаге. Сквозь туман смутно выступала бурая стена трехэтажного дома, густо облепленная заплатами многочисленных вывесок.