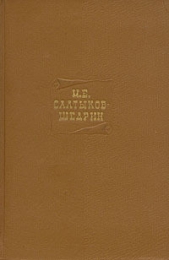Невинные рассказы

Невинные рассказы читать книгу онлайн
Самое полное и прекрасно изданное собрание сочинений Михаила Ефграфовича Салтыкова — Щедрина, гениального художника и мыслителя, блестящего публициста и литературного критика, талантливого журналиста, одного из самых ярких деятелей русского освободительного движения.
Его дар — явление редчайшее. трудно представить себе классическую русскую литературу без Салтыкова — Щедрина.
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова — Щедрина, осуществляется с учетом новейших достижений щедриноведения.
Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В третий том вошли циклы рассказов: "Невинные рассказы", "Сатиры в прозе", неоконченное и из других редакций.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Много видел я барынь красивых, и из нашего звания тоже хороши девушки из себя бывают, а все-таки Маши другой не встречал. Доброта в ней большая была, а по тому, может, самому краса ее силу имела, что душа у ней на лице всякому объявлялась. Так скажу: не знай я теперь, что давно она от тиранств барских в могилу пошла, жизни бы не пожалел, в кабалу бы себя опять отдал, только бы на лицо ее насмотреться, только бы голоса ее милого наслушаться!
Ну, и она, увидевши меня будто в первый раз, тоже полюбопытствовала.
— Не вы ли, — говорит, — новый повар, что из Москвы онамеднись выслали?
— Я, — говорю.
— Отчего ж, — говорит, — вы в таком платье ходите?
— А оттого, мол, что на то есть барская воля.
— Так вы барина попросили бы… он ведь только горд очень, а добрый!
— Нет, — говорю, — я просить не буду, потому что вперед знаю, что если стану с барином говорить, так уж это беспременно, что ему нагрублю.
— Что ж так?
— Да так; больно уж много нам обид от них было, Марья Сергевна… за что, примерно, он меня платья моего лишил?
— Вот вы какие! пожили в Москве, да и стали уж слишком спесивы! А вы бы глядя на других делали.
Ну, я против этих ее слов ничего сказать не решился; стою да молчу.
— А хорошее, — говорит, — в Москве житье?
И сама, знаешь, тяжеленько этак вздыхает.
— И везде, — говорю, — хорошо, где, то есть, жить нам мило.
— А где, по-вашему, мило? — спрашивает.
— А там, — говорю, — мило, где у нас милый друг находится…
Сказал это, да и смотрю на нее, и даже чувствую, как меня всего знобит. И она со слов моих словно зарделась вся, опустила это головоньку и задумалась.
— Вам, может, желательно, чтоб я за вас барина попросила, — говорит.
— Коли ваше желание на то есть, — говорю, — так от вас я принять милость не откажусь.
Больше в тот вечер я с ней не говорил. Только стало мне с той минуты словно легко и незаботно на свете жить. Пошел я к себе на сеновал спать и всю-то ночь вместо спанья только песни пропел.
Да и ночь-то на ту пору какая случилась! теплая да звездная, ровно даже горит это наверху от множества звезд! И все это кругом тебя спит; только и слышишь, как лошадь около яслей на мякину фыркнула или в деннике жеребенок в соломе спросоньев закопошился.
На утре позвали меня к барину. Не могу о себе сказать, чтоб из робких был; однако на ту пору так сробел, что даже сердце во мне упало. Барин принял меня в лакейской пред всеми людьми и очень что-то грозно.
— Ну что, — говорит, — прочухался?
Я молчу.
— Что ж ты не отвечаешь, зверь?
Я опять молчу. Только слышу, что по-за дверью ровно зашуршало что. Задрожал, затрясся я весь.
— Виноват, — говорю.
— То-то, мол, виноват! А не знаешь, видно, как слуга должен у господина своего прощенья просить?
Пал я на колени… Ну, и простил он меня, на кухню определить велел… Только как вспоминаю я теперь про это, даже во рту скверно становится…
. . .
Стали мы после этого чаще видаться, только больше все при людях. Иной раз и встретишься где-нибудь один на один, однако смешаешься, обробеешь — ну, ничего и не скажешь. Об одном только и в мыслях, бывало, держишь, как бы с ней встретиться, или бы шорох от платья ее услышать, или бы вот хоть издальки на нее полюбоваться. Ну, и она словно заметила, что усмешечка ее шибко мне нравится: как ни пройдет мимо меня, всякий раз беспременно усмехнется… Так и протянулось наше дело до осени.
По осени, так около введеньева дня, стали наши господа в Москву сбираться. Пошел это по дому треск да шум; возы с поклажей сряжают, экипажи дорожные излаживают — ну, как у больших господ обыкновенно водится. Слышу я, что и Маша с господами уезжает, а мне приказу ехать не объявляют. Стал я стороной от людей узнавать: кто говорит — Павлу повару ехать, кто говорит — мне ехать, а настоящего нету. Времени меж тем все меньше остается — смерть, да и полно!
Порешил я под конец, чтоб мне самому с Машей об этом переговорить. Выбрал время, как ей из дому во флигель на ночь идти, стал и жду у крылечка. Только вижу, что вдали огонек забрезжил и прямо-таки к флигелю бежит, словно вот искорка, откуда ни взялась, одна сама собой в воздухе летает.
— Вы, — говорю, — Марья Сергевна?
Спервоначалу она было испугалась, даже оступилась и упала, однако голосу не дала. Я ее бережненько поднял, посадил на крылечко и фонарь затушил.
— Вы, — я говорю, — не опасайтесь меня, Марья Сергевна!.. Я с тем нарочно и пришел, чтоб вас видеть. Мочи моей больше нет; все у меня сердце от тоски изорвалось!
Подошел я поближе к ней, взял ее за рученьку и слышу, что она словно лист вся трясется.
— Вы вот с господами в Москву сбираетесь, — говорю, — стало быть, расставанье будет нам долгое… Поэтому я так теперь о себе понимаю, что самый я без вас буду несчастный человек, и, стало быть, ничего мне другого желать не надо, как только руки на себя наложить или в леса от таких мученьев бежать…
— Да ведь и вы, чай, с нами в Москву поедете? Чтой-то уж и бежать собрались!.. словно и разуму своего вы лишились!
— Нет, — говорю, — в Москву я с вами не поеду; да и вы, коли меня жалеете, барина от этого намерения отклоните. Потому, первое, что в Москве я надежды на себя не имею, и верно это знаю, что барин либо в солдаты меня отдаст, либо в ссылку сошлет. А второе дело, мне и здесь на ваше житье смотреть совсем непереносно стало.
Как выговорил я ей это, она словно даже ручьем залилась.
— Так вот, — говорит, — чем вы меня попрекаете! точно сами не знаете, какова моя здесь жизнь!
— Я, — говорю, — не с тем это сказал, чтоб вас попрекать, а с тем, что при моих к вам чувствах смотреть мне на эти дела не приходится.
Только она еще пуще на это заплакала, а меня ровно тут дух какой обуял! Бросился я к ней, поднял это ее к себе на руки… И жалко-то мне ее, и душу-то я бы за нее отдал, и злость, однако, за сердце словно вот клещами хватает: пропадай, мол, все, не доставайся она ни мне, ни ему! Даже закоченел весь, даже не слышу ничего, мну да тираню ее, сердечную, в руках, будто задушить хочу… А она только потихоньку стонет, а рваться от меня не рвется.
— Ваня! — говорит, — что ты надо мной сделать хочешь!
Опамятовался я под конец, выпустил ее из рук. Тяжко мне тут сделалось, так тяжко, что и сказать нельзя. Смотрю это на барский двор и сам бог знает что думаю; смотрю тоже и на большую дорогу, и на лес дальний, — и все это будто перемешалось во мне; точно не сам я, а именно лукавый во мне думает.
И такова была в ней душа ангельская, что она не токма что тиранства моего не попомнила, а меня же, зверя лютого, утешать бросилась.
— Ваня, — говорит, — голубчик ты мой! ах, да посмотри же, посмотри же ты на меня! пожалей ты меня! Легче бы мне в пропасть теперь сгинуть, чем сердце твое на себе видеть!
И вот, братец ты мой, хоть зима на дворе стояла: значит, и темнеть, и сивир, и снег, однако краше для меня эта ночь самой теплой летней ночи показалася! Все эти звезды, что на небе горят, словно в сердце у меня загорелися!
Наутро прикинулась к ней горячка. Доложили об этом барину и послали за дохтуром. Дохтур обозрил ее и сказал, что в Москву ехать никак нельзя. Сокрушился Семерик; однако такую к Маше привычку взял, что даже поездку в Москву хотел отложить. Только тут ихняя супруга, дай бог ей здоровья, за наше счастие вступилася. Семерик говорит: «Не поеду!» Семеричиха кричит: «Врешь, поедешь!» И опять Семерик свое долбит, а Семеричиха так на него и заливается: «И без того я от тебя невесть что безобразиев терплю, чтоб смел ты меня, кабачник, на всю жизнь в деревню запереть!» Много у нас тут страму на весь дом было. Однако Семеричиха, как была генеральская дочь, одолела. Стали сбираться; вышел и мне приказ быть готовым.
Ну, нет, думаю, это, видно, подождать придется! И удумал я тут штуку. Явился к Семерику и, как ни воротило мне сердце, пал к нему в ноги взаправду.
— Позвольте, — говорю, — в деревне остаться.