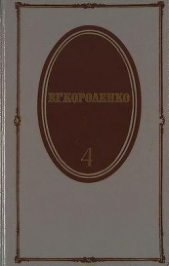Том 5. История моего современника. Книга 1

Том 5. История моего современника. Книга 1 читать книгу онлайн
Пятый том составляет первая книга «Истории моего современника».
«История моего современника» — крупнейшее произведение В. Г. Короленко, над которым он работал с 1905 по 1921 год. Писалось оно со значительными перерывами и осталось незавершенным, так как каждый раз те или иные политические события отвлекали Короленко от этого труда.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот класс француза Лемпи. Швейцарец родом, он как-то попал в Ровно и здесь учительствует лет сорок. Семьи у него нет. Весь его мир — класс, инспекторская комната и квартира в нескольких шагах от гимназии. Сорок лет в определенные часы он проходит автоматической походкой эти несколько саженей в гимназию и обратно. Увидеть мосье Лемпи вне этого пространства — большая редкость. По-русски он говорит плохо. Его объяснения — это несколько стереотипных формул, запоминаемых ради курьеза. Он сохранил еще достаточно внимания и настойчивости, и потому класс грамматики, которую он отделил от переводов, — истинное мучение…
Сквозь автоматическую оболочку порой, однако, прорывается что-то из другой жизни. Он любит рассказывать о прошлом. В каждом классе есть особый мастер, умеющий заводить Лемпи, как часовщик заводит часы. Стоит тронуть какую-то пружину — старик откладывает скучный журнал, маленькие глазки загораются маслянистым мерцанием, и начинаются бесконечные рассказы…
Это нечто смутно легендарное, фантастическое. Он родился в Швейцарии… Учился у великого Песталоцци. Песталоцци был гениальнейший педагог… Лемпи был пушкарем школьного отряда…
Рассказывает он все это детски умиленным голосом, сюсюкая, прижмурив глаза, поднимая кверху ладони с несгибающимися пальцами. Ученики, знающие всю эту историю (порой по рассказам своих отцов), предаются посторонним занятиям, зубрят следующие уроки, играют в пуговицы и перья. А бедный швейцарец говорит и говорит. Он знал великого Наполеона. В какую-то трудную минуту его жизни он оказал ему услугу в качестве проводника через Альпы. Они подымались по отвесным скалам, смазав руки липкой смолой. Великий Наполеон потрепал его по плечу и сказал: «Mon brave petit Lumpi», что значит: «Ты, Лемпушка, есть молодец»… Если тема начинала истощаться, заводчик напоминал об африканской пустыне. Лемпи покорно отправлялся в африканскую пустыню, путешествовал по знойным пескам, видел, как боа-констриктор глотал молодого быка. Рога злополучного четвероногого торчали сквозь кожу «этого монстра», обтянутые, как пальцы в перчатках. И так они продвигались на глазах у наблюдателя от змеиной шеи к желудку.
Благодетельный звонок прерывал нескончаемое путешествие, и грамматика оставалась неспрошенной. Но иногда заводчик не успевал подать реплику… Фантазия Лемпи угасала… Он тяжело вздыхал, рука тянулась к журналу, и в оставшиеся пять или десять минут он успевал поставить несколько двоек. Первым страдал «заводчик».
Учитель русского и славянского языка, Егоров, был еще толще Лемпи. Только швейцарец напоминал цилиндр, Егоров — шар. Голова у него была не по росту мала, глаза — заплывшие щелочки, нос — незаметная пуговка, голос — тонкая фистула. Отвечать ему нужно было быстро, монотонно и без запинок. Раз начав таким тоном, можно было далее врать сколько угодно. Егоров сидел, закрыв глаза, точно убаюканный, с короткими ногами на весу, круглый, похожий на китайского божка. Но стоило ученику запнуться или изменить тон — глаза Егорова открывались, голова откидывалась назад, и он произносил обиженной скороговоркой:
— Балл дам! Балл дам! Балл дам!
За третьим выкриком следовало быстрое движение руки, и в журнал влетала характерная егоровская двойка в виде вопросительного знака.
— Балл уже дан! Садись!
Начиная объяснение задаваемого урока, Егоров подходил к первой парте и упирался в нее животом. На этот предмет ученики смазывали первую парту мелом. Дитяткевич в коридоре услужливо стирал белую полосу на животе Егорова, но тот запасался ею опять на ближайшем уроке.
Географ Самаревич больше всех походил на Лотоцкого, только в нем не было ни великолепия, ни уверенности. Тонкий, высокий, сухой, желтый, он говорил всегда врастяжку, звенящим, не то жалобным, не то угрожающим голосом. По коридорам, как и Лотоцкий, ходил журавлиным шагом, как будто переступая через лужи. За металлические дверные ручки брался не иначе как сдвинув рукав и покрыв сукном ладонь. Взойдя на кафедру, останавливался, как Лотоцкий, всегда в одной позе, держась рукой за клок волос, по странной игре природы торчавший у самого горла (борода и усы у него не росли). Класс стихал. Становилось жутко. Тонкая длинная шея Самаревича, с большим кадыком, змееобразно двигалась в широком воротнике, а сухие, желчные глаза обегали учеников справа налево. В выражении глаз и лица чувствовалась беспредметная злоба и страдание. В эту жуткую минуту по классу, следуя за колющим взглядом Самаревича, пробегала полоса мертвящего оцепенения… Стоило двинуться, повернуться, шевельнуть ногой — как тотчас же раздавался зловеще певучий голос:
— Дежурный! Отведи его в темный карцер.
«Темного» карцера не было, никто нас туда не отводил, и мы проводили время просто где-нибудь в пустом классе. Это было очень удобно, особенно для невыучивших уроки, но пользовались этим редко: так жутко было ощущение этой минуты… Того же результата, впрочем, можно было добиться иначе: стоило раскрыть ножик и начать чистить ногти. Самаревич принимался, как тощий ветряк на порывистом ветре, махать руками, называл ученика негодяем и высылал из класса.
Уроки у него выучивали. Не потому, что знать их было интересно, а потому, что не ответить было жутко. И значит, как учитель, он был на хорошем счету. Никому, разумеется, не приходило в голову, чем, в сущности, заменял он для нас познание божьего мира. Однажды, перед экзаменом по географии, мне приснился странный, теперь сказали бы «символический», сон. На каком-то огромном полу лежала бесконечная географическая карта с раскрашенными площадками, с извилистыми чертами рек, с черными кружками городов. Я глядел на нее и не мог вспомнить ни названий, ни того, какой из этих кружков знаменит лесной торговлей, а какой торгует шерстью и салом. А в середине карты — в каком-то туманном клубке, виднелась голова на тонкой извивающейся шее, и колющие глаза остро глядели на меня в ожидании ответа… Безграничные океаны с их грозами, простор и красота мира, кипучая и разнообразная деятельность людей — все это подменилось представлением о листе бумаги с пятнами, чертами и кружками…
Было в этой сухой фигуре что-то зловещее и трагическое. Кончил он ужасно. Из нашей гимназии он был переведен в другой город, и здесь его жена — добродушная женщина, которую роковая судьба связала с маниаком, — взяла разрешение держать ученическую квартиру. Предполагалось, что это будет ее особое дело, но Самаревич скоро простер на него мертвящую власть кошмара. Рассказывали, что каждый вечер перед сном, во главе домочадцев, он обходил всю квартиру, заглядывал во все углы, под столы и под диваны. После этого квартира запиралась, и ключ Самаревич уносил к себе под подушку.
Однажды — это было уже в восьмидесятых годах — ночью в эту запертую крепость постучали. Вооружив домочадцев метлами и кочергами, Самаревич подошел к дверям. Снаружи продолжался стук, как оказалось… «именем закона». Когда дверь была отворена, в нее вошли жандармы и полиция. У одного из учеников произвели обыск, и ученика арестовали.
Это совершенно ошеломило Самаревича. Несколько дней он ходил с остолбенелым взглядом, а в одно утро его застали мертвым. Оказалось, что он перерезал себе горло. Жандармы показались ему страшнее бритвы…
Учитель немецкого языка, Кранц… Подвижной человек, небольшого роста, с голым лицом, лишенным растительности, сухой, точно сказочный лемур, состоящий из одних костей и сухожилий. Казалось, этот человек сознательно стремился сначала сделать свой предмет совершенно бессмысленным, а затем все-таки добиться, чтобы ученики его одолели. Всю грамматику он ухитрился превратить в изучение окончаний,
— Леонтович, — вызывает он, нарочно коверкая фамилию и переставляя ударение. — Склоняй: der Mensch [16].
Леонтович встает и склоняет, произнося не слова, а только окончания: именительный: с, ц, аш,родительный: э, эс,дательный: э, м,винительный: э, н…Множественное число: э, н…и так далее.