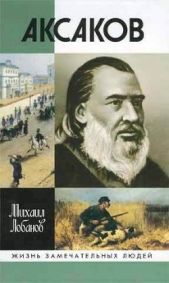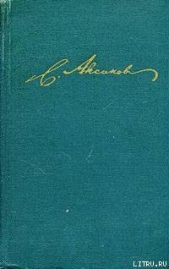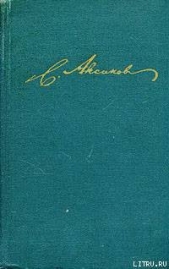Том 1. Семейная хроника. Детские годы Багрова-внука

Том 1. Семейная хроника. Детские годы Багрова-внука читать книгу онлайн
В истории русской литературы имя Сергея Тимофеевича Аксакова занимает видное место. Выдающийся мастер реалистической прозы, писатель, он в совершенстве владел тонким и сложным искусством изображения природы, был изумительным знатоком всех сокровенных богатств русского народного слова.
В настоящее издание вошли наиболее значительные художественные, мемуарные произведения, а также критические статьи Сергея Тимофеевича Аксакова.
Том 1: «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Обед происходил обыкновенным порядком; молодые сидели рядом между свекром и свекровью; блюд было множество, одно другого жирнее, одно другого тяжеле; повар Степан не пожалел корицы, гвоздики, перцу и всего более масла. Свекор ласково потчевал молодую, и молодая ела, творя молитву, чтоб не умереть на другой день. Разговоров было мало, сколько оттого, что у всех были рты на барщине, как говаривал Степан Михайлыч, столько же и оттого, что говорить не умели, да и все смущались, каждый по-своему; к тому же Ерлыкин, в трезвом состоянии, когда он пил только одну воду, был крайне скуп на слова, за что и считался отменно умным человеком; Каратаев же без спроса не смел разинуть рта при Степане Михайлыче и ограничивался только повторением последних слов, как, например: «Сенокос был бы хорош, если б не захватило ненастье». – «Если б не захватило ненастье», – повторял Каратаев. «Рожь сильно цвела, да неожиданно хватил мороз». – «Неожиданно хватил мороз», – подхватывал Каратаев и т. д. Такие подхватыванья случались иногда весьма невпопад. – Старики не догадались запастись в Уфе кипучим вином и здоровье новобрачных пили трехлетней, на три ягоды налитой, клубниковкой, густой, как масло, разливающей вокруг себя чудный запах полевой клубники. Ванька Мазан, обутый в сапоги, вонявшие дегтем, в сюртуке, сидевшем на нем, как рогожный куль на медведе, подавал всем один бокал с белыми узорами и синеватой струйкой, которая извивалась внутри стеклянной ножки. Когда пришлось молодым благодарить за поздравление, Софье Николавне, конечно, было неприятно пить из бокала, только что вышедшего из жирных губ Каратаева; но она не поморщилась и хотела даже выпить целый бокал. Свекор остановил ее и сказал: «Не кушай всего, милая невестынька, головка заболит: наливка вкусна и сладима, но крепка; ты к этому непривычна». Софья Николавна уверяла, что такое чудесное питье не может быть вредно, и просила позволения еще прихлебнуть немножко, и свекор из своих рук дал ей выпить один глоток.
Для всей семьи было ясно, что Степан Михайлыч доволен невесткой и что все ее речи ему нравились. Видела это и сама Софья Николавна, хотя и заметила с удивлением, что два раза свекор на минуту был чем-то недоволен. В продолжение стола не один раз она встречала его выразительный взгляд, приветливо на нее устремленный. Наконец, кончился долгий и утомительный, впрочем для одной Софьи Николавны, деревенский праздничный обед, который старалась она оживить, по возможности, веселыми разговорами. Встали из-за стола; сын и дочери поцеловали у отца руку, что хотела было сделать и Софья Николавна, но старик не дал руки, обнял и расцеловал свою невестку. Это недаванье руки случилось уже в другой раз, и, следуя пылкой своей природе, Софья Николавна с живостью и нежностью сказала: «Отчего же, батюшка, вы не даете мне руки? Я также ваша дочь и также с любовью и почтением желаю поцеловать вашу руку». Пристально и как-то глубоко посмотрел старик на свою невестку и ласково отвечал: «Любить-то я тебя люблю, но только родным детям надо целовать руку у отца. Ведь я не поп».
Опять вошли в гостиную и расселись по-прежнему. Аксютка принесла кофь, [78] которого старик не пил, который подавался в самых торжественных случаях и до которого вся семья была очень лакома. После кофе Степан Михайлыч встал и, сказав: «Теперь надо хорошенько уснуть, да и молодым с дороги тоже бы отдохнуть не мешало», пошел в свою горницу, куда проводили его сын и невестка. «Вот мой угол, невестынька, – весело сказал старик, – садись, так будешь гостья. Я только для первого разу посидел со всеми вами в гостиной, да еще в этом хомуте (он указал на галстук). Алеша это знает; теперь же, если кто хочет со мной сидеть, так милости прошу ко мне». Он поцеловал невестку, дал поцеловать руку сыну и отпустил их, а сам разделся и лег успокоиться от необыкновенных своих телесных подвигов и душевного движенья. Крепкий сон не замедлил овладеть им, и скоро раздался здоровый храп, от которого мерно шевелился полог, опущенный Мазаном на старого барина.
Примеру хозяина последовали и другие. Зятья, по лицам которых нетрудно было догадаться, что они хорошо покушали, а Каратаев даже и выпил, отправились спать на сенник в конюшню. Дочери собрались в горницу к матери, которая спала особо от старика; там начались такие шептанья и шушуканья, суды и пересуды, что никто из них в этот день и спать не ложился. Досталось на орехи бедной Софье Николавне! Расцыганили ее золовушки! Очевидная благосклонность свекра к невестке выводила из себя озлобленную семью. Нашлась, однако, одна добрая душа, вдова Аксинья Степановна, по второму мужу Нагаткина, которая заступилась за Софью Николавну; но на нее так прогневались, что выгнали вон из комнаты и окончательно исключили из семейного совета, и тут же получила она вдобавок к прежнему прозвищу «простоты сердечной» новое оскорбительное прозвище, которое и сохранилось при ней до глубокой старости; но добрая душа осталась, однако, навсегда благорасположенною к невестке и гонимою за то в семье.
Молодые отправились в свою парадно убранную спальню. Софья Николавна с помощью горничной своей девушки, черномазой и бойкой Параши, разобрала дорожные сундуки и баулы, которых было необыкновенно много в английской мурзахановской карете. Параша знала уже наперечет всю дворню, всех старух и стариков в крестьянах, которых особенно следовало подарить, и Софья Николавна, привезшая с собой богатый запас разных мелких вещей, всем назначила подарки, располагая их по летам, заслугам и почету, которым пользовались эти люди у своих господ. Молодые супруги не чувствовали усталости и надобности отдохнуть. Софья Николавна переоделась в другое платье, менее пышное, и, оставя Парашу окончательно раскладываться и устраиваться в спальне, пошла, несмотря на жар, гулять с молодым своим мужем, которому очень хотелось показать ей свои любимые места: березовую рощу, остров, обсаженный только что распустившимися липами, и прозрачные воды огибающей его реки. И как хорошо было там в эту пору, когда свежесть весны соединяется с летнею теплотою! Алексей Степаныч, страстно любящий, еще не привыкший к счастию быть мужем обожаемой женщины, был как-то неприятно изумлен, что Софья Николавна не восхитилась ни рощей, ни островом, даже мало обратила на них внимания и, усевшись в тени на берегу быстро текущей реки, поспешила заговорить с мужем об его семействе, о том, как их встретили, как полюбила она свекра, как с первого взгляда заметила, что она ему понравилась, что, может быть, и матушке свекрови также бы она понравилась, но что Арина Васильевна как будто не смела приласкать ее, что всех добрее кажется Аксинья Степановна, но что и она чего-то опасается… «Я все вижу и понимаю, – прибавила она, – вижу я, откуда сыр-бор горит. Я не пропустила ни одного слова, ни одного взгляда, вижу, чего я должна ожидать. Бог судья твоим сестрицам, Елизавете и Александре Степановне…» Но рассеянно слушал Алексей Степаныч: освежительная тень, зелень наклонившихся ветвей над рекою, тихий ропот бегущей воды, рыба, мелькавшая в ней, наконец обожаемая Софья Николавна, его жена, сидящая подле и обнявшая его одной рукой… Боже мой, да разве тут можно что-нибудь замечать, кого-нибудь обвинять, чем-нибудь быть недовольным? Да тут нельзя слышать и понять, что услышишь, – и Алексей Степаныч решительно не слыхал и не понял, что говорила его молодая жена; ему было так хорошо, так сладко, что одно только забвение всего окружающего и молчание могло служить полным выражением его упоительного блаженства. Софья Николавна продолжала говорить, говорила много, с жаром, с чувством и, наконец, заметила, что муж ее не слушает, чуть ли не дремлет. Она быстро встала, и тут последовало одно из тех явлений, тех столкновений взаимного непонимания друг друга, которое хотя и проглядывало уже не один раз, но так ярко еще никогда не обозначалось. Все было высказано вновь, и в потоке горячих речей вырвались слезы и упреки в невнимании и равнодушии. Изумленный, даже встревоженный Алексей Степаныч, как будто упавший с неба, как будто разбуженный от сладкого сна, думая успокоить жену, уверял с совершенною искренностью, что все прекрасно и все бесподобно, что это все ее одно воображение, что ее все любят и что разве может кто-нибудь ее не любить?.. Несмотря на простоту и ясность чистосердечного убеждения, на безграничную любовь, которая выражалась в глазах, в лице и в голосе Алексея Степаныча, Софья Николавна, при всем ее уме и живой чувствительности, не поняла своего мужа и в его словах нашла новое доказательство того же равнодушия, того же невнимания. Объяснения и толкования продолжались с возрастающим жаром, и не знаю до чего бы дошли, если б Алексей Степаныч, издали увидя бегущую к ним, по высоким мосткам, горничную девушку сестры Татьяны Степановны и догадавшись, что батюшка проснулся и что их ищут, не сообщил поспешно своих опасений Софье Николавне, которая в одну минуту очнулась, овладела собой и, схватив мужа за руку, поспешила с ним домой; но невесело шел за ней Алексей Степаныч.