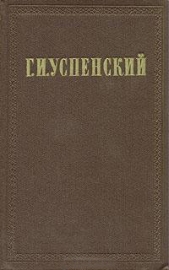Том 5. Крестьянин и крестьянский труд
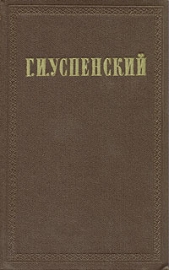
Том 5. Крестьянин и крестьянский труд читать книгу онлайн
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.
В пятый том вошли очерки «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли», «Из разговоров с приятелями», «Пришло на память», «Бог грехам терпит», «Из деревенских заметок о волостном суде» и рассказ «Не случись».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Таков Гаврила теперь, в настоящую минуту, когда он уже прошел огонь, воду, медные трубы и «чугунные повороты» всевозможных расстройств труда и духа, которые сделали и в деревне модным хищническое направление жизни и мысли. В то же время, к которому относится наш рассказ, Гаврила еще не уверовал так бесповоротно в высокое значение проходимства, а только чуял, что оно — главное; сам же скрепился на жадности, на расчете, на скупости. Каждый кусок сахару, каждая охапка сена, каждое полено, щепка — все употреблялось с аптекарскою точностью; он знал, что может дать ему его труд и земля, знал вперед на целый год, что ему придется есть и пить, знал, как и на что будут употреблены деньги, полученные им за телку, которая еще не появлялась на свет, даже не думала появляться…
Вот в такую-то минуту, «рассчитав» все свои средства, однажды после уборки хлеба Гаврила увидел, что к будущей весне ему «нехватит» столько-то и столько-то и что недостающее необходимо где-нибудь и как-нибудь выработать. Он решился идти в извозчики в Петербург. Сначала он надеялся работать просто с своей деревенскою телегой, перевозить с дач господ и заработать к зиме сани; рождество, масленица, казалось ему, выручат его к весне. Он решил ехать и стал собираться. Необходимо сказать, что уже после того, как Гаврила с женой отделились, условия труда стали накладывать на них разные обязательства, во имя которых требовалось все больше и больше, как мы видели, необходимости расчета и скупости; вот в это-то время они — и Гаврила и его жена — порешили не иметь детейдо поры, до времени. Жена Гаврилы, о которой необходимо сказать подробно, была энергическая, страстная женщина. Она была красива, статна, но после раздела, поняв трудность положения и всегда с одного взгляда понимая планы и намерения мужа, всю свою энергию и всю свою страстность сосредоточила на том же, на чем сосредоточился и муж: выбиться, догнать и перегнать всех, кто давит и стремится повредить ближнему, закабаляя его во имя нужды. Ввиду этого скупость и расчетливость мужа достигли в жене высшей степени развития: он был строг и расчетлив, а она стала расчетливее в сотни раз более и в сотни раз скупее. Решение не иметь детей иссушило ее: она стала худа, суха, молчалива, — но муж видел, что она понимает необходимость решения и относится к нему в миллион раз расчетливее, чем он. Между ними установились какие-то молчаливые отношения. Они много молчали друг с другом, но друг друга отлично понимали, затаив одни и те же мысли.
Перед отъездом в Петербург Гаврила, несмотря на свою сухость душевную, почувствовал, что ему «жалко» оставлять семью, жену… Накануне дня отъезда (он собрался выезжать ночью) он так «соскучился», что, лежа на полатях, не выдержал тоскливого чувства и робко шепнул жене, хлопотавшей под полатями с ребятами и другой мелкой домашнею работой: «Авдотья, подь-ка сюда!»… Но Авдотья, хоть и слышала эти слова, не показала вида; она только громче застучала какой-то посудой, громче заговорила с ребятами, громко хлопнула дверью, выходя в сени, и долго не возвращалась. Воротившись, она легла спать с детьми, не дав мужу никакого ответа, и притворилась, что крепко заснула. Да и муж успел уже «очувствоваться» и не повторил приглашения. Он уже успел «высчитать», что чувственность его могла бы сильно повредить расчетам. Во-первых, получился бы лишний рот, который отнял бы Авдотью от работы, и когда?. И это он высчитал: оказалось — в сенокос…
В два часа ночи Гаврила встал, запряг лошадь и сказал жене: «Ну так, значит, отписывай, коли что…» Жена ответила: «Ладно… Отписывай, все ли благополучно». Заперла ворота и принялась за дело.
По приезде в Петербург Гаврила неожиданно узнал, что ему незачем вырабатывать городского экипажа, что такие экипажи отдаются хозяевами извозчичьих дворов напрокат, от 50 копеек до 1 рубля в день, и что он, следовательно, может сейчас же сделаться самым настоящим извозчиком. Деревенская лошадь и костюм извозчичий, который он мог, сообразно со средствами, приобрести только самый плохой, обязывали его быть ночным извозчиком, а не дневным. Это обстоятельство познакомило его с свойствами пьяной, темной петербургской ночи и, как кажется, положило начало любви к темным ночам и глухим переулкам. Петербургская осенняя или зимняя ночь, этот конец дневной вытяжки, лганья и вранья, — это время «воли», которым пользуется подтянутый в течение дня Петербург для того, чтобы люди не видали под покровом ночи, каков он «неподтянутый» и как много скрыто всякого смрада в глубине этой выдержки и вытяжки, — этот ночной Петербург окончательно уронил в мнении Гаврилы «господ», положив в его душе начало наглой бесцеремонности. Не раз пьяные «господа» с барышнями по ошибке давали ему десятирублевую бумажку вместо рублевой, и он привык не стыдиться и не упускал случая попросить «еще» на водочку. Пользуясь ночною темнотой, не раз надували и его, и он старался наверстывать тем же. В общем дела Гаврилы шли хорошо; он не ожидал даже таких барышей. И вот однажды вез он «из клуба» каких-то двух седоков, барина и барыню. Они, видимо, подгуляли, были веселы, кричали оба: «Извозчик, пошел, погоняй, прибавим!», и подъехали они к какому-то подъезду, соскочили опрометью, (кажется, это была гостиница), ушли… Оглянулся Гаврила, а на сиденье дрожек — муфта. Был октябрь в начале, и холода, иногда, со снегом, и морозом, одевали петербургских жителей в теплые платья. Не долго думая, Гаврила припрятал мягкую муфту за пазуху, и погнал лошадь от подъезда. Возвратившись на квартиру часу в пятом утра и распрягая лошадь, он при свете фонаря вытащил из-за пазухи находку и стал ее рассматривать: муфта оказалась новенькая и, должно быть, дорогая — таких мехов Гаврила не видывал. Но кроме самой муфты внутри ее нашлось маленькое портмоне, которое Гаврила едва мог открыть, употребляя на это почти лошадиную силу, и в котором оказалось денег более сорока рублей. Да и портмоне-то, кажется, серебряное. Находка была, очевидно, большая, ценная. Но что с ней делать? Показать на квартире? Скажут: представь в полицию. Продать? Скажут: украл, и как бы совсем не отобрали. Он спрятал ее под половицу в сарае, подняв ее и выцарапав руками яму. Яму эту он засыпал снегом, и, несмотря на то, что никому не пришло бы в голову, что под половицей что-то есть, он не спал всю ночь. Всю ночь он думал, как быть, и, наконец, решил запрячь лошадь в телегу, ехать в деревню, отдать находку жене… Может быть, летом наедут господа на дачи… Да и сама баба, может, что выдумает. Необходимо ехать, потому что здесь, в Петербурге, находка может пропасть, отлучка же не продлится более трех суток.
Выждав денька два, покуда убедился, что никто не ищет потерянного, Гаврила запряг лошадь в телегу и уехал в деревню, спрятав находку на груди… Через день он был в деревне, а еще через день уехал обратно в Питер, но в этот промежуток, под впечатлением находки муфты, денег и портмоне и вообще под впечатлением некоторой удачи, одинаково действовавшей как на Гаврилу, так и на его жену, отношения мужа и жены утратили некоторую долю официальности. «Ах, — думал Гаврила в дороге, — никак по числам-то не выйдет»… То же думала и Авдотья… Несколько раз и мужу и жене приходило в голову, что незачем бы было случиться тому, что вышло против всяких расчетов. И точно, расчет Гаврилы оказался ошибочным. Едва он воротился в Петербург, как узнал, что в газетах была объявка, что приходил городовой и расспрашивал, «не находил ли кто» таких-то и таких-то вещей. Неожиданный отъезд его в деревню был принят во внимание, во-первых, товарищами по промыслу, которые и стали толковать о находке и подозревать Гаврилу. Городовой опять пришел, стал выспрашивать Гаврилу и так настойчиво, что Гаврила струхнул. Попробовал было он отделаться без взятки — городовой потащил его в квартал для допроса; попробовал было он отделаться двугривенным — городовой пять раз кряду оштрафовал его за всевозможные нарушения порядка: за то, что стал у панели, не сидел на козлах, за то, что шел посреди улицы рядом с дрожками. Пришлось дать сразу синюю ассигнацию, чтоб утихомирить малое начальство. Не в руку Гавриле пошли святки и масленица. На святках цена за прокат саней поднялась втрое, поднялись в цене овес и сено. Народу из деревень понаехало множество, и выручка была плохая. Пьяные отнимали множество времени на хлопоты: возит, возит Гаврила иного по переулкам, а тот только мычит, а ничего не говорит; привезет в квартал и уедет без денег. На масленой наехали тысячи чухонцев и сразу уронили цену до ничтожных размеров; пришлось гонять лошадь до упаду. Не посчастливилось и с погодой: утром снег, а ночью поезжай на дрожках, плати вдвое — и за сани и за дрожки… В конце концов, когда Гаврила возвратился в деревню (великим постом), выручка его вместе с находкой только-только оправдывала те расчеты и надежды, которые он имел в виду, отправляясь на заработок. А Авдотья была уж беременна, и, как видите, это обстоятельство являлось теперь не подходящим ни к каким расчетам. Родить она должна в июне, в самую рабочую пору: надо ходить за ребенком, надо поправляться. Нанять работницу?.. А сочти-ко, сколько это стоит.