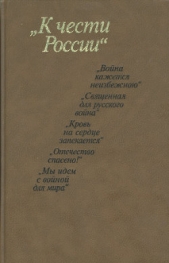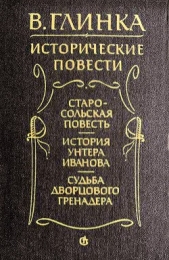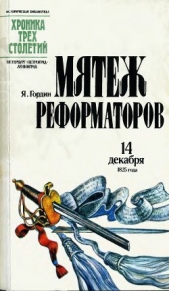Гонимые и неизгнанные

Гонимые и неизгнанные читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В "Записках" даже никогда не унывающий, как звали его друзья, "веселый страдалец" Николай Иванович Лорер и спустя 35 лет не нашел сил подробно описать это прощание (он работал над мемуарами в 1862-1867 годах):
"Невыразимая тоска сосала душу", - будто через сдерживаемые рыдания пробивается пронзительная фраза.
Из Петровского завода даже самые молодые уезжали 30-35-летними мужами. За плечами каждого шестилетняя каторга, груз страданий и ценой их полученный опыт. В неприкосновенности сохранили они верность молодым своим идеалам. Да и сама молодость - будто спасенная условиями заточения и полнотой их духовной жизни, взаимного духонасыщения - ещё жила в них энергической своей жизнью, то и дело прорываясь, искала выхода.
...Изба была большая, солнечная, чистая. До желто-матовой основы выскобленные широкие лавки расходились из красного угла под темными образами вдоль обеих стен, на широкие же и тоже чистые полати наброшено было цветное самотканое рядно. Цветные половики застилали весь из толстых сосновых половиц пол. Печь - широкая, русская, была по-сибирски ещё и высокая, с двумя лежанками по бокам. Она очень хорошила всю избу свежей побелкой. Будто строгим взглядом остановила она жандармов, двинувшихся было в горницу, не обтерев ног. Служба службой, а, видно, помнили они крестьянское свое детство, почтение к материнскому труду в избе, а может, и накрученное строгой рукой ухо. Вслед за первыми постояльцами в мундирах, отряхнув снег с валенок, шуб, сняв шапки, вошли в нарядную эту горницу и те, кого мундиры сопровождали.
И не хватило у избы простора и света - стало шумно, тесно, исчезли желтосолнечные краски лавок, погрустнели цветные половики. Люди заполнили собою все вокруг. Но изба повеселела вместе с ними, когда расселись они вокруг стола, на котором кипел самовар, а шутки, смех очень грустных, как казалось сначала, людей снова поселили в доме опрятность и солнечность.
После ужина они долго сидели за столом - маленький скол большой артели. О чем говорили они, что чувствовали, оказавшись впервые вне стен каземата? Вряд ли о предстоящем, его не знал никто, хотя в глубине души каждого тревога уживалась с надеждой. Тогда, в 1833-м, ещё надеялись, что монарх, исчерпав свою ненависть, высочайше соизволит вернуть их на родину. А может, отдохнув с дороги, принялись спорить о недоспоренном? Одно можно утверждать с уверенностью: не было тоски, печали и угрюмости за тем вечерне-ночным столом у самовара. В первую некаторжную их ночевку...
Ночь почти заканчивалась: затихали на полу, лавке, дремал даже неугомонный Лорер. Вдруг вслед за коротким стуком раздалось радостное, прямо-таки восторженное, хоть и хрипловатое "Ку-ка-реку!". Все подскочили, кто-то зажег свечу, ища злого шутника. А он - красивый, важный, белый, отчего изумрудно-голубое оперение хвоста и головы было ещё роскошнее, стоял у печи, у нижней заслонки, и набирал силы для нового радостного клича. Немая сцена сменилась чьим-то полувопросом:
- Как он здесь, откуда?
Н.И. Лорер с серьезной миной пояснил, указывая на дверь соседней комнатки, где спали жандармы:
- Это наши стражи выставили стража, а он перестарался!
Когда смех утих, Николай Иванович заявил:
- Я волею своей отменяю твое усердие, Петруша, - и стал пробираться к печке.
В ответ раздалось ещё более самодовольное "Ку-ка-реку!". Взрыв хохота не остановил Лорера. Он благополучно достиг печи, но "Петруша" не намеревался ни покидать свой пост, ни даваться в руки. В минуту изба превратилась в некое существо из смеха, движения и придушенного "Ку-ка-реку". Упирающегося "Петрушу" общими силами затолкали под печь, плотно закрыли заслонку и приперли кочергой и ухватом. Постепенно все успокоилось, сон сморил всех в одночасье.
Новый грохот был ещё оглушительнее - летели железная кочерга и ухват, заслонка подобно пушечному ядру отлетела к двери. "Ку-ка-реку!" было не только радостным, но и злорадным, - мол, не остановить наступления утра. Четыре пары осоловелых со сна глаз уставились на белое "чудо", отдыхающее после ора и снисходительно на всех взирающее.
- Господа, я homo humanus, но этой твари я иду сворачивать голову, - в голосе Лорера звучала убежденность живодера.
И снова смех, возня, снова надежное петушиное заточение, а затем неизменное "Ку-ка-реку", едва избу заполняло сонное дыхание людей. Петух мучил их до самого рассвета. Сердиться было бессмысленно, но Николай Иванович всякий раз изобретал какие-то словесные кары пернатому и веселил всех ужасно, а уже утром, впервые за ночь рассмеявшись сам, заключил:
- А ведь Петруша похож на нас. Мы его в заточение, а он "Ку-ка-реку!", и мы опять его в заточение, а он опять "Ку-ра-реку". Наш брат - каторжный.
Только позвольте, господа, - спохватился вдруг Лорер, - выходит, что мы-то с вами исполняли ролю Никса?
Ответом был хохот просто оглушительный. И за утренним чаем не было конца шуткам и смеху.
Н.И. Лорер, умевший осветить добрым юмором самое грустное настроение (в каземате утвердилось то ли прозвище, то ли клич "Лорер, утешай меня"), вероятно, глазами души разглядел, как близки слезы у всегда приветливого и спокойного Павла Пушкина.
Хозяйка, крепкая, румяная и улыбчивая крестьянка, поставила на стол большую миску с румяными - только из печи - сибирскими шанежками. Увидев, как аппетитно справляется с ними Павел Сергеевич, Лорер сделал постно-строгое лицо, вздохнул и произнес глубокомысленно:
- И Астральному духу1 не чужда бренная материя!
И снова хохот, и заулыбался, и чем-то в ответ рассмешил всех Павел Сергеевич.
Нынче все было смешно - и не смешное. Они доживали последние крохи своей юности, молодости, они наслаждались согревающим душу чувством братства, нечеловеческим усилием воли отбрасывали - хотя бы на быстротечные эти сутки дороги - мысли о самом близком будущем. Каждому будто хотелось насмеяться впрок. Через несколько дней, знали они, беспощадные слова "навсегда" и "никогда" обретут силу действия. Может быть, навсегда поглотит их Сибирь. Может быть, никогда не доведется им больше увидеться.
Для осужденных по 4-му разряду - полковника Павла Васильевича Аврамова, подпоручика Павла Дмитриевича Мозгана (Мазгана), штабс-капитана Петра Александровича Муханова, бухгалтера Ильи Ивановича Иванова, прапорщика Ивана Федоровича Шимкова - силу закона и судьбы обрели оба эти слова: никогда не довелось им увидеть друзей и близких на родине, навсегда присвоила их Сибирь.
Село - город на карте
Неутомимая месть монарха удивлять перестала. Но боль приносила, и немалую. Особенно когда начался разъезд на поселение. Надо сказать, что и здесь монарх продумал "процедуру": освобождаемых с каторги отправляли не прямо на место поселения, а, как было сказано, доставляли сначала в Иркутск, пред очи генерал-губернаторские. Н.И. Лорер в "Записках" рассказывает, как объяснил царские реляции о расселении генерал-губернатор Восточной Сибири А.С. Лавин-ский1, когда очередные четыре декабриста 4-го разряда, отправленные на поселение, прибыли к нему:
- Господа, я должен был бросить жребий между вами, чтоб назначить, кому где жить. Ежели б правительство предоставило мне это распоряжение, я, конечно, поместил бы вас по городам и местечкам, но повелением из Петербурга мне указывают места. Там совсем не знают Сибири и довольствуются тем, что раскидывают карту, отыщут точку, при которой написано "заштатный город", и думают, что это в самом деле город, а он вовсе и не существует. Пустошь и снега. Кроме этого, мне запрещено селить вас вместе, даже двоих, и братья должны быть разрознены. Где же набрать в Сибири так много мест для поселения?..
В 4-м разряде тысячами километров Сибири отделяли братьев Беляевых мичманов гвардейского экипажа. Александру Петровичу повелевалось жить в Илгинском винокуренном заводе Иркутского округа, Петру Петровичу местом поселения был определен Минусинск. Очень друживших и глубоко привязанных друг к другу братьев разлучали впервые в жизни, и не было надежды, что они встретятся. Пронзительной печалью было их прощание для всех.