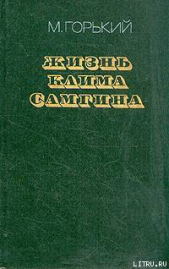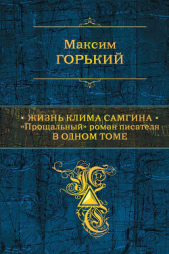Том 22. Жизнь Клима Самгина. Часть 4

Том 22. Жизнь Клима Самгина. Часть 4 читать книгу онлайн
В двадцать второй том собрания сочинений вошла четвертая часть «Жизни Клима Самгина», не вполне законченная автором и впервые опубликованная после его смерти Комиссией ЦК ВКП(б) и СНК СССР по приемке литературного наследства и переписки А. М. Горького.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Значит — священник не провожает, — сказал представитель бюро. — Как вам угодно, — добавил он.
Во втором часу дня он шагал вслед за катафалком, без шапки, потирая щеки и уши. День был яркий, сухо морозный, острый блеск снега неприятно ослеплял глаза, раздражали уколы и щипки мороза, и вспоминалось темное, остроносое лицо Варвары, обиженно или удивленно приподнятые брови, криво приоткрытые губы. Идти было неудобно и тяжело, снег набивался в галоши, лошади, покрытые черной попоной, шагали быстро, отравляя воздух паром дыхания и кисловатым запахом пота, хрустел снег под колесами катафалка и под ногами четырех человек в цилиндрах, в каких-то мантиях с капюшонами, с горящими свечами в руках. Пятый, с крестом в руках, шагал впереди лошадей. Ветер сдувал снег с крыш, падал на дорогу, кружился, вздымая прозрачные белые вихри, под ногами людей и лошадей, и снова взлетал на крыши.
«Идиоты», — сердито назвал их Самгин, исподлобья оглядываясь. Катафалк ехал по каким-то пустынным улицам, почти без магазинов в домах, редкие прохожие как будто не обращали внимания на процессию, но все же Самгин думал, что его одинокая фигура должна вызывать у людей упадков впечатление. И не только жалкое, а, пожалуй, даже смешное; костлявые, старые лошади ставила доги в снег неуверенно, черные фигуры в цилиндрах покачивались на белизне снега, тяжело по снегу влачились их теня, на концах свечей дрожали ненужные бессильные язычки огней — и одинокий человек в очках, с непокрытой головой и растрепанными жидкими волосами на ней. Самгин догадывался, что во всем этом есть что-то чрезмерно, уродливо мрачное, способное вызвать усмешку, как вызывает ее карикатура. Вспоминались наиболее неприятные впечатления: похороны Туробоева, аллегорически указывающий в пол желтый палец Лютова, взорванный губернатор — Самгин чувствовал себя обиженно и тоскливо. Он очень обрадовался, когда его догнал лихач, из саней выскочил Дронов и, подойдя к нему, сказал:
— Вы не дойдете, ведь это — далеко! Едемте, встретим на кладбище.
Не ожидая согласия, он взял Самгина под руку, усадил в санки, посоветовал:
— Наденьте шапку-то…
Лихач тряхнул вожжами, рыжая лошадь стремительно ворвалась в поток резкого холода, Самгин сжался и, спрятав лицо в воротник пальто, подумал уныло:
«Простужусь».
Быстро домчались до кладбища. Дронов оказал лихачу:
— Подождешь! — Спросил Самгина: — Озябли? — и выругался: — Морозец, черт его возьми.
Толкнув Клима на крыльцо маленького одноэтажного дома, он отворил дверь свободно, как в ресторан, в тепле очки Самгина немедленно запотели, а когда он сиял их — пред ним очутился Ногайцев и высокая, большеносая мужеподобная дама, в котиковой шайке.
— Соболезную искренно — и тоже чрезвычайно огорчен, — сообщил он, встряхивая руку Самгина, а дама басовито сказала:
— Орехова, Мария, подруга Вари, почти четыре года не видались, встретились случайно, в сентябре, и вот — пришла проводить ее туда, откуда не возвращаются.
Она величественно отошла в угол комнаты, украшенный множеством икон и тремя лампадами, села к столу, на нем буйно кипел самовар, исходя обильным паром, блестела посуда, комнату наполнял запах лампадного масла, сдобного теста и меда. Самгин с удовольствием присел к столу, обнял ладонями горячий стакан чая. Со стены, сквозь запотевшее стекло, на него смотрело лицо бородатого царя Александра Третьего, а под ним картинка: овечье стадо пасет благообразный Христос, с длинной палкой в руке.
— Да, вот как подкрадывается к нам смерть, — говорил Ногайцев, грея спину о кафли голландской печки.
— Нестерпимо жалко Варю, — сказала Орехова, макая оладью в блюдечко с медом. — Можно ли было думать…
Дронов, разыскивая что-то в карманах брюк и пиджака, громко откликнулся:
— О смерти думать — бесполезно. О жизни — тоже. Надобно просто — жить, и — больше никаких чертей.
— Ты, Ваня, молчи, — посоветовал Ногайцев.
— Это — почему?
— Ты — выпивши, — объяснил Ногайцев. — А это, брат, не совсем уместно в данном, чрезвычайном случае…
— Ба, — сказал Дронов. — Ничего чрезвычайного — нет. Человек умер. Сегодня в этом городе, наверное, сотни людей умрут, в России — сотни тысяч, в мире — миллионы. И — никому, никого не жалко… Ты лучше спроси-ка у смотрителя водки, — предложил он.
— Вот уж это неприлично — пить водку здесь, — заметила Орехова.
Дронов, читая какую-то записку, пробормотал:
— Даже и на могилах пьют…
— А могила — далеко? — спросил Самгин. Орехова ответила;
— К сожалению — очень далеко, в шестом участке. Знаете — такая дороговизна!
Самгин вздохнул. Он согрелся, настроение его становилось более мягким, хмельной Дронов казался ему симпатичнее Ногайцева и Ореховой, но было неприятно думать, что снова нужно шагать по снегу, среди могил и памятников, куда-то далеко, слушать заунывное пенис панихиды. Вот открылась дверь и кто-то сказал:
— Привезли.
Ногайцев отвел Самгина в сторону и пошептал ему:
— Тут начнется эдакая, знаете… пустяковина. Попы, нищие, могильщики, нужно давать на чай и вообще… Вам противно будет, так вы дайте Марье Ивановне рублей… ну, полсотни! Она уж распорядится…
Да, могила оказалась далеко, и трудно было добраться к ней по дорожкам, капризно изломанным, плохо очищенным от снега. Камни и бронза памятников, бугры снега на могилах, пышные чепчики на крестах источали какой-то особенно резкий и пронзительный холод. Чем дальше, тем ниже, беднее становились кресты, и меньше было их, наконец пришли на место, где почти совсем не было крестов и рядом одна с другой было выковыряно в земле четыре могилы. Над пятой уже возвышалась продолговатая куча кусков мерзлой земли грязножелтого цвета, и, точно памятник, неподвижно стояли, опустив головы, две женщины: старуха и молодая. Когда низенький, толстый поп, в ризе, надетой поверх мехового пальто, начал торопливо говорить и так же поспешно запел дьячок, женщины не пошевелились, как будто они замерзли. Самгин смотрел на гроб, на ямы, на пустынное место и, вздрагивая, думал:
«Вот и меня так же…»
В больнице, когда выносили гроб, он взглянул на лицо Варвары, и теперь оно как бы плавало пред его глазами, серенькое, остроносое, с поджатыми губами, — они поджаты криво и оставляют открытой щелочку в левой стороне рта, в щелочке торчит золотая коронка нижнего резца. Так Варвара кривила губы всегда во время ссор, вскрикивая:
«Ах, остафь!»
Он вообразил свое лицо на подушке гроба — неестественно длинным и — без очков.
«В очках, кажется, не хоронят…»
— Да, вот что ждет всех нас, — пробормотала Орехова, а Ногайцев гулко крякнул и кашлянул, оглянулся кругом и, вынув платок из кармана, сплюнул в него…
…Это было оскорбительно почти до слез. Поп, встряхивая русой гривой, возглашал:
— «Во блаженном успении вечный покой подаждь, господи…»
Позванивали цепочки кадила, синеватый дымок летал над снегом, дьячок сиповато завывал:
— «Ве-ечная па-амять, ве-ечная…»
«Да, вот и меня так же», — неотвязно вертелась одна и та же мысль, в одних и тех же словах, холодных, как сухой и звонкий морозный воздух кладбища. Потом Ногайцев долго и охотно бросал в могилу мерзлые комья земли, а Орехова бросила один, — но большой. Дронов стоял, сунув шапку под мышку, руки в карманы пальто, и красными глазами смотрел под ноги себе.
— Ну — ладно, пошли! — сказал он, толкнув Самгина локтем. Он был одет лучше Самгина — и при выходе с кладбища нищие, человек десять стариков, старух, окружили его.
— К чорту! — крикнул он и, садясь в санки, пробормотал: — Терпеть не могу нищих. Бородавки на харе жизни. А она и без них — урод. Верно?
Самгин не ответил. Озябшая лошадь мчалась встречу мороза так, что санки и все вокруг подпрыгивало, комья снега летели из-под копыт, резкий холод бил и рвал лицо, и этот внешний холод, сливаясь с внутренним, обезволивал Самгина. А Дронов, просунув руку свою под локоть его, бормотал:
— Жаловалась на одиночество. Это последний крик моды — жаловаться на одиночество. Но — у нее это была боль, а не мода.