Том 4. История моего современника. Книги 1 и 2
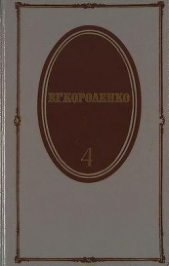
Том 4. История моего современника. Книги 1 и 2 читать книгу онлайн
В том включены первая и вторая книги «Истории моего современника» (1853–1921), итогового произведения писателя, отразившего социально-политические и нравственные искания его поколения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда сторож пришел вечером, чтобы освободить заключенного, он нашел его в беспамятстве, свернувшегося комочком у самой двери. Сторож поднял тревогу, привел гимназическое начальство, мальчика свезли на квартиру, вызвали мать… Но Янкевич никого не узнавал, метался в бреду, пугался, кричал, прятался от кого-то и умер, не приходя в сознание…
Теперь в гимназии не было уже ни виновников этой смерти, ни товарищей жертвы. Но гимназическая легенда переходила от поколения к поколению, и ученики считали своею обязанностью подновлять надпись на могильном камне. Это было тем интереснее, что надзиратель Дитяткевич, в просторечии называвшийся Дидонусом, считал своею обязанностью от времени до времени выскабливать крамольные слова. Таким образом, борозда утопала все глубже, но надпись все оживала, сохраняя память о чьей-то начальственной «строгости» и об ее «жертве»…
Таково было первое впечатление, каким встречала меня «Ровенская реальная гимназия»…
XX. Желто-красный попугай
И теперь еще, хотя целые десятилетия отделяют меня от того времени, — я по временам вижу себя во сне гимназистом ровенской гимназии… Особенным звуком звенит в моих ушах частый колокол, и я знаю: это старик сторож из кантонистов подошел к углу гимназического здания, где на двух высоких столбах укреплен качающийся колокол, и дергает за длинную веревку. Звон, настойчивый, торопливый, как будто захлебывающийся, перелетает через гладь прудов, забирается в ученические квартиры. Частый топот ног по деревянным мосткам, визг и стук калитки на блоке с несколькими камнями… Топот усиливается, как прилив, потом становится реже, проходит огромный инспектор, Степан Яковлевич Рущевич, на дворе все стихает, только я все еще бегу по двору или вхожу в опустевшие коридоры с неприятным сознанием, что я уже опоздал и что Степан Яковлевич смотрит на меня тяжелым взглядом с высоты своего огромного роста.
Порой снится мне также, что я сижу на скамье и жду экзамена или вызова к доске для ответа. При этом меня томит привычное сознание какой-то неготовности и риска…
Так прочны эти впечатления. И не мудрено. В ровенской гимназии я пробыл пять лет и два года в житомирской. Считая в году по двести пятьдесят дней, проведенных в классах или церкви, и по четыре-пять учебных часов ежедневно, — это составит около восьми тысяч часов, в течение которых вместе со мною сотни молодых голов и юных душ находились в непосредственной власти десятков педагогов. Затихшее здание гимназии в эти часы представляется мне теперь чем-то вроде огромного резонатора, в котором педагогический хор настраивает на известный лад умы и души сотен будущих людей. И мне хочется, хотя бы в самых общих чертах, определить теперь основные ноты, преобладавшие в этом хоре.
Еще в Житомире, когда я был во втором классе, был у нас учитель рисования, старый поляк Собкевич. Говорил он всегда по-польски или по-украински, фанатически любил свой предмет и считал его первой основой образования. Однажды, рассердившись за что-то на весь класс, он схватил с кафедры свой портфель, поднял его высоко над головой и изо всей силы швырнул на пол. С сверкающими глазами, с гривой седых волос над головой, весь охваченный гневом, он был похож на Моисея, разбивающего скрижали.
— Иблопы! Бараны! Ослы! — кричал он по-польски. — Что значат все ваши граматыки и арытметыки, если вы не понимаете красоты человеческого глаза!..
Может быть, это было грубо и смешно, но мы не смеялись. От могучей фигуры старого художника над толпой неосмысленных малышей пронеслось, как вихрь, одушевление фанатической веры в свой предмет, в высшее значение искусства… Когда он подходил к рисующему ученику и, водя большим пальцем над бумагой, говорил: «Ага! Вот так… Чувствуешь, малый? Оно вот тут округляется. Вот-вот… Теперь сильнее, гуще!.. Ага! Видишь: засветилось, глядит!..» — то казалось, что под этими его жестами на самой бумаге начинают роиться живые формы, которые стоит только схватить…
Другая фигура, тоже еще в Житомире. Это священник Овсянкин… Он весь белый, как молоко, с прекрасными синими глазами. В этих глазах постоянно светилось выражение какого-то доброго беспокойства. И когда порой, во время ответа, он так глядел в мои глаза, то мне казалось, что он чего-то ищет во мне с ласковой тревогой, чего-то нужного и важного для меня и для него самого.
Однажды он задумал устроить для своих учеников говение особо от остальных молящихся.
Для этого он наскоро сладил ученический хор под руководством двух учеников из поповичей и сам служил для нас после общей службы. Нам это нравилось. Церковь была в нашем нераздельном владении, в ней было как-то особенно уютно, хорошо и тихо. Ни надзирателей, ни надзора не было.
Но… попав в эту обстановку после годичной муштровки — ученики распустились. Всех охватила какая-то резвость, особенно во время спевок, на которых не бывало и священника. После одной такой спевки настроение перелилось через край, и за вечерней хор пропел «отцу и сыну и святому духу» с кощунственным изменением («брюху»). В сущности, настоящего, сознательного кощунства тут не было, а была только инерция резвости. Мальчишки шутили скорее над добрым священником, чем над представлением о боге. По окончании службы причетник сказал, что батюшка просит всех остаться. Мы сгрудились около левого клироса. В слабо освещенной старой церкви стало как-то торжественно-тихо и печально. Через минуту Овсянкин вышел из алтаря серьёзный и как бы виновный. Подойдя к нам, он начал говорить:
— Дети… дети мои…
Но продолжать не мог. Белое лицо его как-то жалко дрогнуло, глаза затуманились, и по щекам потекли крупные слезы.
Эта глубокая печаль потрясла нас гораздо сильнее, чем могла бы потрясти самая красноречивая проповедь. Певчие, пристыженные и растроганные, первые кинулись к нему, целовали его руки, ловили края широких рукавов. За ними старика обступили остальные, неповинные в кощунстве; все мы каялись в том, что и нам показалось это смешно и весело. Старик клал руки на наши коротко остриженные волосы, и лицо его постепенно светлело… Говение окончилось под впечатлением этой сцены, и никогда впоследствии покаянная молитва Ефрема Сирина не производила на меня такого действия, как в эти дни, когда ее произносил для нас Овсянкин в убогом старом храме, под низким потолком которого лилось пение растроганного, кающегося молодого хора…
Наконец в Ровно я застал уже только рассказы об одном учителе физики. Должно быть, фигура была тоже яркая в своем роде, так как рассказы о нем переходили из поколения в поколение. Он был «натурфилософ» и материалист. По его мнению, физические законы объясняли все или должны были все объяснить. Опыты он проделывал с таким увлечением, как будто каждый из них был откровением, подымающим завесу мировой тайны, а в учительской он вел страстную полемику с священником, противопоставляя геологические периоды шести дням творения…
Художника Собкевича у нас убрали в конце первого же года моего пребывания в житомирской гимназии: началось «обрусение», а он не мог приучиться говорить в классе только по-русски. Как ни старался бедный старик — на русском языке у него ничего «не скруглялось» и «не светилось». Да и вообще вся его оригинальная фигура плохо укладывалась в казенные рамки. Овсянкина тоже скоро сменил законоучитель Сольский, сухой и строгий… Наконец ровенского «натурфилософа» удалили по доносу его полемиста-священника, который этим способом восстановил авторитет «Книги бытия».
Как ни различны эти фигуры — они встают в моей памяти, объединенные общей чертой: верой в свое дело. Догматы были различны: Собкевич, вероятно, отрицал и физику наравне с грамматикой перед красотой человеческого глаза. Овсянкин был одинаково равнодушен к красоте человеческих форм, как и к красоте точного познания, а физик готов был, наверное, поспорить и с Овсянкиным о шестодневии. Содержание веры было различно, психология одна.
Теперь — яркая фигура уже другого рода.
Это учитель немецкого языка, мой дальний родственник, Игнатий Францевич Лотоцкий. Я еще не поступал и в пансион, когда он приехал в Житомир из Галиции. У него был диплом одного из заграничных университетов, дававший тогда право преподавания в наших гимназиях. Кто-то у Рыхлинских посмеялся в его присутствии над заграничными дипломами. Лотоцкий встал, куда-то вышел из комнаты, вернулся с дипломом и изорвал его в клочки. Затем уехал в Киев и там выдержал новый экзамен при университете.


























