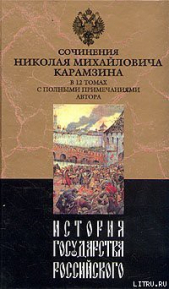Избранные сочинения. В двух томах. Том 1

Избранные сочинения. В двух томах. Том 1 читать книгу онлайн
Составление, подготовка текста и примечания П. Беркова
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сию минуту получил я записку от Платнера, в которой изъявляет он свое желание, чтобы я когда-нибудь пожил в Лейпциге долее и подал ему случай заслужить мою благодарность. — Профессор Бек, который очень обязал меня своею ласкою, взял на себя искать гофмейстера для П*. Он будет писать ко мне в Цирих. — Простите, любезные друзья!
В путешествии своем от Лейпцига до Веймара не заметил я ничего, кроме прекрасной долины, на которой лежит город Наумбург, и маленькой деревеньки, где ребятишки набросали множество цветов к нам в коляску — к нам, говорю, потому что я ехал до Буттельштета с одним молодым французом, который был чем-то в свите французского посланника в Дрездене. Разумеется, что ребятишки хотели денег; мы бросили несколько грошей, и они громко закричали нам: «Спасибо!» — Француз, который не разумел ни одного слова по-немецки и которому я служил переводчиком, почти заплакал, когда нам пришлось расставаться. Впрочем, он был для меня совсем незанимателен.
На рассвете приехали мы в Буттельштет, где почтмейстер дал мне до Веймара маленькую колясочку. Я подарил постиллиону фарфоровую трубку, купленную мною на берлинской фабрике, а он из благодарности привез меня в Веймар довольно скоро.
Местоположение Веймара изрядно. Окрестные деревеньки с полями и рощицами составляют приятный вид. Город очень невелик, и, кроме герцогского дворца, не найдешь здесь ни одного огромного дома. — У городских ворот меня допрашивали; после чего предложил я караульному сержанту свои вопросы, а именно: «Здесь ли Виланд? Здесь ли Гердер? Здесь ли Гете?» — «Здесь, здесь, здесь», — отвечал он, — и я велел постиллиону везти себя в трактир «Слона».
Наемный слуга немедленно был отправлен мною к Виланду, спросить, дома ли он? — «Нет, он во дворце». — «Дома ли Гердер?» — «Нет, он во дворце». — «Дома ли Гете?» — «Нет, он во дворце».
«Во дворце! Во дворце!» — повторил я, передразнивая слугу, взял трость и пошел в сад. Большой зеленый луг, обсаженный деревьями и называемый звездою, мне очень полюбился; но еще более полюбились мне дикие, мрачные берега стремительно текущего ручья, под шумом которого, сев на мшистом камне, прочитал я первую книгу «Фингала». — Люди, которые встречались мне в саду, глядели на меня с таким любопытством, с каким не смотрят на людей в больших городах, где на всяком шагу встречаются незнакомые лица. Узнав, что Гердер наконец дома, пошел я к нему. «У него одна мысль, — сказал о нем какой-то немецкий автор, — и сия мысль есть целый мир». Я читал его «Urkunde des menschlichen Geschlechts» («Документы рода человеческого» (нем.). — Ред.), читал, многого не понимал; но что понимал, то находил прекрасным. В каких картинах изображает он творение! Какое восточное великолепие! Я читал его «Бога», одно из новейших сочинений, в котором он доказывает, что Спиноза был глубокомысленный философ и ревностный чтитель божества, от пантеизма и атеизма равно удаленный. Гердер сообщает тут и свои мысли о божестве и творении, прекрасные, утешительные для человека мысли. Чтение сей маленькой книжки усладило несколько часов в моей жизни. Я выписал из нее многие места, которые мне отменно полюбились. Постойте — не найду ли чего-нибудь в записной книжке своей?.. Нашел одно место, которое, может быть, и вам полюбится, — и для того включу его в свое письмо. Автор говорит о смерти: «Взглянем на лилию в поле; она впивает в себя воздух, свет, все стихии — и соединяет их с существом своим, для того чтобы расти, накопить жизненного соку и расцвесть; цветет и потом исчезает. Всю силу, любовь и жизнь свою истощила она на то, чтобы сделаться матерью, оставить по себе образы свои и размножить свое бытие. Теперь исчезло явление лилии; она истлела в неутомимом служении натуры; готовилась к разрушению с начала жизни. Но что разрушилось в ней, кроме явления, которое не могло быть долее, которое, — достигнув до высочайшей степени, заключавшей в себе вид и меру красоты ее — назад обратилось? И не с тем, чтобы, лишась жизни, уступить место юнейшим живым явлениям, — сие было бы для нас весьма печальным символом, — нет! Напротив того, она, как живая, со всею радостию бытия произвела бытие их и в зародыше любезного вида предала его вечноцветущему саду времени, в котором и сама цветет. Ибо лилия не погибла с сим явлением; сила корня ее существует; она вновь пробудится от зимнего сна своего и восстанет в новой весенней красоте, подле милых дочерей бытия своего, которые стали ее подругами и сестрами. Итак, нет смерти в творении; или смерть есть не что иное, как удаление того, что не может быть долее, то есть действие вечно юной, неутомимой силы, которая по своему свойству не может ни минуты быть праздною или покоиться. По изящному закону премудрости и благости, все в быстрейшем течении стремится к новой силе юности и красоты — стремится и всякую минуту превращается». — В сем сочинении все ясно и понятно и согласно. Тут не бурнопламенное воображение юноши кружится на высотах и сверкает во мраке, подобно ночному метеору, блестящему и в минуту исчезающему, но мысль мудрого мужа, разумом освещаемая, тихо несется на легких крыльях веющего зефира — несется ко храму вечной истины и светлою струею свой путь означает. — Я читал еще его «Парамифии» (То есть отдохновения. Сим именем называют еще и нынешние греки свои забавные краткие повести.), нежные произведения цветущей фантазии, которые дышат греческим духом и прекрасны, как утренняя роза.
Он встретил меня еще в сенях и обошелся со мною так ласково, что я забыл в нем великого автора, а видел перед собою только любезного, приветливого человека. — Он расспрашивал меня о политическом состоянии России, но с отменною скромностию. Потом разговор обратился на литературу, и, слыша от меня, что я люблю немецких поэтов, спросил он, кого из них предпочитаю всем другим? Сей вопрос привел меня в затруднение. «Клопштока, — отвечал я, запинаясь, — почитаю самым выспренним из певцов германских». — «И справедливо, — сказал Гердер, — только его читают менее, нежели других, и я знаю многих, которые в «Мессиаде» на десятой песне остановились, с тем чтоб уже никогда не приниматься за эту славную поэму». — Он хвалил Виланда, а особливо Гете — и, велев маленькому своему сыну принести новое издание его сочинений, читал мне с живостию некоторые из его прекрасных мелких стихотворений. Особливо правится ему маленькая пиеса, под именем «Meine Gottin» (Моя богиня (нем.). — Ред.), которая так начинается:
и проч.
«Это совершенно по-гречески, — сказал он, — и какой язык! Какая чистота! Какая легкость!» — Гердер, Гете и подобные им, присвоившие себе дух древних греков, умели и язык свои сблизить с греческим и сделать его самым богатым и для поэзии удобнейшим языком; и потому ни французы, ни англичане не имеют таких хороших переводов с греческого, какими обогатили ныне немцы свою литературу. Гомер у них Гомер; та же неискусственная, благородная простота в языке, которая была душою древних времен, когда царевны ходили по воду и цари знали счет своим баранам. — Гердер — любезный человек, друзья мои. Я простился с ним до завтрашнего дня.
В церковь св. Якова надобно было зайти для того, чтобы видеть там на стене барельеф покойного профессора Музеуса, сочинителя «Физиогномического путешествия» и «Немецких народных сказок». Под барельефом стоит на книге урна с надписью: «Незабвенному Музеусу». — Чувствительная Амалия! (Герцогиня веймарская, мать владеющего герцога.) Потомство будет благодарить тебя за то, что ты умела чтить дарования.