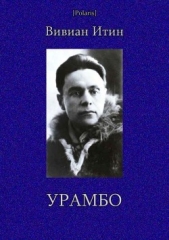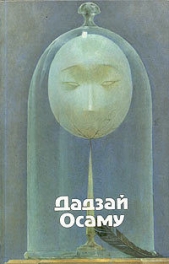Избранные произведения. Том 2

Избранные произведения. Том 2 читать книгу онлайн
Второй том Избранных произведений С. М. Городецкого составляют его прозаические сочинения: романы «Сады Семирамиды» и «Алый смерч», повести: «Сутуловское гнездовье», «Адам», «Черная шаль», рассказы, статьи, литературные портреты.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В свете ослепительного горного солнца пестрые головные уборы женщин, полосатые, красные и синие юбки, рыжая шерсть мужских жилетов и синева домотканых шаровар, белые, золотистые и черные спины быков и коров, блеск медной посуды и разноцветное тряпье одеял в облаке мелкой известняковой пыли — все это сверкало и пестрило на фоне голых, безлесных каменных скал и пустой голубизны безоблачного неба.
Это был уже второй уход.
Когда уходили в первый раз, после невероятной борьбы из-за каждой изгороди, из-за каждого окна, из-за угла каждого дома, шли с отчаяньем, не таким мертвым, с надеждой, не такой зыбкой, с силой, почти еще нетронутой. Верили, что казачьи сотни, заняв Ван, дадут народу возможность вернуться домой и восстановить свои хозяйства. И действительно, потеряв десятки тысяч в стычках, в беженстве, в тяжелом пути, ванский народ вернулся домой и в обугленных домах с неистощимым упорством начал строиться, копить запасы, сеять на полях хлеб, проводить в сады арыки, любить и рожать. Но это была только кратковременная вспышка жизни. Две-три сотни сумасшедших в своей смелости казаков не могли удержать Ван от вихря руководимых немцами турецких войск. И внезапно народ узнал, что он беззащитен и что опять нужно уходить.
Когда уходили в первый раз, можно было собраться, было время для того, чтобы напечь лепешек, подкормить скот, починить одежду. Теперь нужно было уходить сразу.
Когда уходили в первый раз, многие думали, что в русской Армении готова помощь, что там есть дома и хлеб. Но в пределах русской Армении хозяйничали дашнаки. Они не подготовили помощи. Весь дошедший до этих пределов народ превратился в тысячеголового, изъеденного вшами и истощенного голодом нищего. И тогда раскололся народ надвое, как сухой орех. Половина ушла в русскую Армению, через перевал к Севанскому озеру, к Эривани, чтобы там рассосаться по окраинам, разметаться таборами и по одному вплавляться на работу только за харчи в пур, к жестянщикам, столярам и кожевникам — ванский народ издавна славился своим искусством и любовью к ремеслам. Другая половина, не в силах оторваться от пределов родины, бедствовала вокруг Игдыря, как бы боясь потерять из виду Арарат, в трех переходах от которого лежала их родина. И теперь все знали, что впереди только нищенство и болезни, и никто уже не верил, что хватит сил вернуться назад, к своим домам и садам. Теперь шли, как на смерть.
И оттого каждое дерево там, в Ване, от которого остался только почернелый ствол, каждый камень в основании дома, обугленный огнем, каждая давно высохшая извилина арыка казались оторванной частью собственного тела. Развалины домов, остовы садов тянули к себе назад, в Ван и тормозили, как цепи, ноги идущих.
В хвосте людского потока, в обвешанном тряпками фургоне, на охапке соломы лежала Шамирам. Старуха руками, похожими на ветки старого миндаля, часто поила ее мутной и теплой водой из маленького кувшина. Это был сборный фургон. Остатки нескольких семейств поместились в нем. Тут не было родных — роднило только горе. Черноглазые, глазастые дети, еще не понимая, что они лишились отцов и матерей, занимали большую часть фургона. Старик с перевязанной головой уже третий день шептал одно и то же: что он не хочет умирать в пути, что он умоляет, если только в людях осталась капля жалости, спустить его на землю, положить его на землю — на земле он хочет умереть. Нестарая женщина с растрепанными волосами быстро-быстро перебирала четки и время от времени начинала кричать отчаянным голосом:
— Акопа не убивайте! Он самый маленький!
— Шамирам! Шамирам! — шептала старуха. — Ну, открой же глазки! Ну, покажи же свои глазки солнцу! Ведь оно соскучилось по твоим глазкам! Ведь они у тебя круглые, как спелая вишня. Такие ж глаза были у твоей матери. Ну выгляни же на солнышко! Тогда твои щеки не будут такими бледными! Ну скажи хоть одно слово! Сколько дней ты уже молчишь! Расскажи, что с тобой случилось! Ведь я знала твою мать еще совсем маленькой! Ведь вы все родились на моих глазах! Ведь я всех твоих братьев и сестер хоронила своими руками. Одна ты осталась из всего рода Пахчанов. Ну открой же глазки!
— Не надо в колодец! — чуть слышно простонала Шамирам.
— Что ты говоришь? Какой колодец? — старуха нагнулась еще ниже к ней.
— Я из колодца ее вытащил, — глухо подтвердил старик. — Турки забивали народ в колодцы. Полон мертвых колодец. Живыми набили его, да в колодце не проживешь! Сверху она сидела. И как пролезла! Щель-то узенькая!
— Не надо в колодец! — опять застонала Шамирам. — Не надо в колодец!
Слезы хлынули из ее глаз, она стала всхлипывать, как ребенок, и вдруг, съежившись в комок, заскрежетала зубами и стала отбиваться от старухи, тщетно пытавшейся ее обнять и успокоить.
— Шамирам! Шамирам! Сердце мое! Что ж это сделали с тобой! — причитала над ней старуха, укладывая ее на соломе. — Да расскажи ты, из какого колодца ее вытащил? Где это было? — набросилась она на старика.
Но тот уже снова отдался своей мысли — умереть, лежа на земле и, уставившись бесцветными, невидящими глазами в старуху, лепетал:
— Спустите же меня на землю! Спустите! Неужели в людях нет ни капли жалости?
Тогда старуха, сбив с себя головной убор, запустила в седые волосы одеревенелые, как ветки старых миндалей, пальцы и, рванув свою голову вниз, завыла протяжным волчьим воем, без слов, без мысли, без надежды.
Услышав ее вой, крупный белоголовый вол поднял морду и замычал, давая знать, что он тоже страдает, что он устал, голоден и хочет отдохнуть. Соседние волы, быки и коровы тотчас ответили ему сочувственным мычаньем. Молодой строптивый бычок где-то впереди, широко расставив ноги, упер голову в землю и остановился. Но останавливаться было нельзя, потому что этот переход был самым длинным, и до ночевки в Сувалане оставалось еще много верст.
Коротконогий, коренастый человек, в шапке спутанных черных волос, осыпал быка ударами палки, перемежая их самыми нежными словами, которые приходили ему на ум:
— Да ну, сыночек! Да ну, атласный мой! Да ну, цветочек! Ну иди же!
Бычок посмотрел на хозяина прекрасным, ясным, как небо, глазом и, мотнув головой, согласился идти дальше.
Хозяин его, Вагаршак, дал ему еще несколько легких ударов и вспрыгнул на арбу, отпахнув полотняную занавеску.
Оттого, что заботливо прикрепленные занавески были из белой холстины, внутри арбы уютно разливался смягченный холстом солнечный свет. Похоже было на лазаретную комнату. К этому и стремился Вагаршак, несмотря на всю торопливость отъезда успевший устроить арбу так, как ему хотелось, для своей сестры Анаид. Он взял ее прямо из лазарета, где она провела последние два месяца и где было так светло и чисто среди недавно выбеленных стен.
Она была беременна, Анаид, сестра Вагаршака. В ее узких, как косточка финика, глазах светилось любопытство и пробегал испуг. Природа уже учила ее бережно относиться к своему телу, и она, лежа на уже успевшем запылиться холсте, укладывала свои маленькие ноги так, чтоб было удобно зародышу, с самой весны развивавшему в ней свою жизнь. Смуглые ручонки она часто прикладывала к детским своим грудям, которые набухали с такой странной, никогда не испытанной болью. Потребность покоя, неподвижность ленивой неги — это было главное, что она чувствовала теперь. Розовый свет солнца подчеркивал рыжеватый загар материнства на ее щеках. Пухлые губы запеклись от истомы, не покидавшей ее тело. Арба качалась, как люлька, и убаюкивала ее. Она начинала дремать, крепко смыкая длинные и черные ресницы, и вся погружалась в полусон, в котором слышнее была двойная жизнь ее тела, пока арба, круто поворачивая на спуске или натыкаясь на камень, не давала резкого толчка. Тогда Анаид подымала испуганные глаза на брата, как бы ища у него защиты, и хваталась за живот.
— Лежи, лежи спокойно! — успокаивал ее Вагаршак. — Это камень, простой камень. После Сувалана дорога пойдет лучше.
Он гладил ей волосы и, не зная, как выразить свою ласку, так крепко сжимал ей руку, что она вскрикивала от боли.