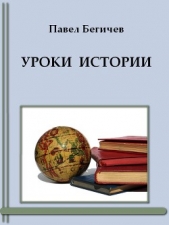Тщеславие

Тщеславие читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Откровенно говоря, у него в этом поступке было немного и от хвастовства - пусть узнает, какой он сильный. Он ведь еще в армии нес на спор на плече пятидесятикилограммовый ящик со взрывчаткой ровно пять километров. Но Земма - не ящик: тело ее так удобно обвивается вокруг его торса, и все прикосновения любого уголка ее тела так сладостны, так приятны, так нежны. Вряд ли она весит больше тех пятидесяти килограммов. Ну, может, самую малость больше. Так он пронесет ее не пять - а все двадцать километров до самого дома, если бы это только не смутило ее от миллиона любопытных глаз на улицах города, на этом проспекте, одном из самых длинных в мире, по которому им до дома нужно пройти целых десять километров. Земма смеялась, просила опустить ее на землю, он шутя отвечал ей: как бы не так! - тебя бы я может, и отпустил, да вот жалко босоножки - во что они превратятся от этой, пусть и не каменистой, но проселочной дороги, на которой куски лесса, которые еще не успели раздробить в пыль редкие колеса машин, превратились словно в спекшийся цемент, и даже выбирая дорогу, все равно заденешь за тот или иной ком и на обуви останется царапина как от гвоздя.
Земма сначала пыталась сопротивляться, но он сказал ей, что поклялся всем древнегреческим богам не отпускать ее до самого асфальта, где можно будет поймать машину до городских маршрутов. "Ты спи, - сказал он ей. - А я буду напевать тебе песенки". И он напевал ей разные колыбельные, пытаясь даже покачивать ее, но песенки обязательно выбирал такие, где были бы слова типа "любимы", "родной" или что-то подобное. Вот и сейчас он пел ей: "Спи, МОЯ РАДОСТЬ, усни!" Потом, когда она устала от колыбельных песен, он начал рассказывать ей разные веселые байки, она смеялась, сильнее прижимаясь к нему, и, отсмеявшись от очередной смешной истории, сказала: "Да ты дышишь как паровоз! Отпусти, передохни!" Но он не хотел ее отпускать, понимал, что если отпустит ее на землю, второй раз не удастся завладеть ею: в этой игре она словно соглашалась на роль пленницы, но попав на свободу, уже не позволила бы себе повторить этот вариант, да и он понимал, что, если бы он поставил ее на землю, закурил, передохнул и снова предложил бы нести ее дальше на руках - в этом был бы налет пошлости, если не сама пошлость, по-крайней мере исчезло бы навсегда очарование той внезапности и связанных с ней чувств, которые все еще были с ними, пронизывали каждое слово, каждый жест. И он точно знал ответ Земмы, когда сказал: "Вот если бы ты разрешила мне закурить - тогда я был бы действительно похожим на паровоз!". Она ответила: "Ну отпусти меня! Дальше я пойду сама!". И он понял, как одна фраза не из этого мира, что окружал их, сразу привнесла налет прозаичности, и он не знал, что делать, ему не хотелось отпускать от себя Земму, перестать чувствовать это тепло, эту непонятную нежную силу, у него даже мелькнуло где-то: своя ноша не тянет, но он тут же отогнал эту мысль, потому что это была не НОША, а просто счастье, что он нес на руках. И боялся, что Земма сейчас попросит опустить ее на землю - и он вынужден будет сделать это, так как случайная, не та ФРАЗА, вдруг все упростила.
Он почти не заметил, как их догнала машина. Она притормозила возле них, шофер ехал рядом. Сергей глянул на водителя, и обрадовался: кажется, сама судьба дарила возможность шуткой, хорошей веселостью вернуть им обоим состояние, бывшее здесь, с ними, еще несколько минут назад, потому что из кабины выглядывал типично сельский шофер, который и в город, наверное, никогда не ездит, и вероятней всего - у него нет даже прав. Но кому нужны права в этом почти поднебесье, где всего одна дорога, нет ГАИ, и ездить на ферму, за травой или силосом - никаких прав не надо. Водителю было столько лет, что казалось невероятным, что он сидит за рулем. А борода! Ну чуть ли не как у Черномора. Но старик оказался еще и веселым человеком. Он высунулся из кабины во всей своей красе и спросил: "Э-э! Ти куда такой девищка таскай? Давай на мой мошин садис". Сергей ответил: "На базар, додо, на базар!". Старик не полез в карман за словом: "Зачем на базар? Давай моя покупай будем!.." - "Сколько дашь?" Бабай засмеялся: "На меня тут денги нету. Салом есть. Один уштук даем - на дома таскаешь - твоя здорови. Там люди покупай солом будет. "Сергей глянул на кузов - там лежали тюки прессованной соломы. И он почему-то сказал: "Одного тюка мало. Давай два!" Старик отрицательно покачал головой: "Дорого". - "Как - дорого?" Молодой - четирнадсат лет. Такой будет - три салома даем!" И, засмеявшись, поехал дальше, и Сергей понял, почему он не предложил подвезти их: метрах в ста дорога сворачивала влево, и примерно в километре от нее виднелась ферма. "Вот старый хрен неожиданно грубо сказал Сергей. А Земмка попросила: "Опусти меня. Мне неудобно. Я - устала".
Он опустил ее на землю, - дорога была здесь укатанней - видимо, молоко с фермы часто возили в город, рядом с дорогой была вполне приличная тропинка. По ней, наверное, носили в город ворованное молоко к ближайшим городским домам: до них оставалось не больше полутора километров.
У Земмы явно было испорченное настроение, и он как мог пытался растормошить ее. Он хотел думать, что ее настроение - от усталости, хотя догадывался, что дело в чем-то другом, и как то связано с этим живописным бабаем, с соломой и еще с чем-то. Он пытался привлечь ее внимание и в шутку косился на нее: "Лили! Посмотрите, какие у меня красивые глаза. Я вам нравлюсь, а?" И пытался подражать жесту Мела Феррера, чей герой в фильме "Лили" (они с месяц назад посмотрели эту картину в "Ватане") пытался раскрыть образ лиса-обольстителя. Картина им очень понравилась, и, наверное, поэтому Земма слабо улыбнулась, но не отошла от тех мыслей, которые, видимо, беспокоили ее. Он уже понимал, что допустил какой-то промах, хотел загладить его, и, преградив ей путь, попытался взять ее лицо в свои руки, но она отстранилась, руки его оказались у нее на плечах и он, заглядывая ей в лицо, спросил: "Ну что случилось? Я тебя чем-то обидел?" Она качнула головой: "Не в этом дело". - "А в чем же?" - пытался дознаться он. "Ни в чем", - сказала она. И он понял, что она что-то важное скрывает от него, настолько важное, что говорить об этом вслух было нельзя, но он догадывался, что это каким-то образом относится к нему, и, вероятнее всего, связано с каким-то не очень положительными оценками его личности, и это отзывалось в нем не только тревогой, вернее, тревогой, за которой потихонечку резкими всполохами вспыхивала и угасала боль. Никогда ничего подобного он не испытывал ни с одной девушкой. И даже на прямые их колкости никак не реагировал, так как знал, почему Таня или Оля вдруг говорили: да, конечно, ты у нас - самый самый. Или нечто подобное. Но говорили он так потому, что знали - на них его не хватит, что выбор у него - как у богача на невольничьем рынке - с его сложением, с его лицом, по которому природа прошлась своим резцом ровно настолько, насколько нужно было, чтобы он выглядел как настоящий мужчина, но в то же время не как какой-нибудь ковбой или сладколицый положительный герой советских фильмов, по которым вздыхали по ночам миллионы девиц с дефицитом головного мозга. Тем более, что у него была еще и репутация поэта, правда, только в масштабах их института, но и этого было немало. Из-за своего поэтического дара, а, возможно, и еще из-за чего-нибудь, он и вылетел из института и прямехонько попал служить в ВВС, поскольку за плечами было уже три курса авиационного института. Они тогда, в пятьдесят седьмом, наивно полагали, что наступила эпоха демократии, и это точно должно было быть именно так после того знаменитого письма, которое прочитали их факультету в актовом зале. Правда, и сразу после чтения письма, и все годы до сегодняшнего дня, он никак не мог понять, как член парткома, известный институтский вольнодумец, преподователь по философии Станислав Петрович Шатков, прочитал свою часть доклада таким странным образом, что каждый мог сделать вывод сам - хочешь верь услышанному, хочешь - не верь. Это тем более выглядело контрастным на фоне чтения доклада другим членом партбюро - Яковым Ильичем Морочником, чуть ли не упивавшемуся при чтении правдой партии и смелостью Никиты Сергеевича. Но эти два стиля чтения закрытого письма он вспоминал особенно часто позже, когда попал в невидимые тиски и как почувствовал, что его выдавливают из института. А все началось с капустника, к которому он написал стихи, в которых зацепил, почти открыто, самого секретаря парткома, заведующего кафедрой марксистско-ленинской философии. Потом он признавался себе, что может быть, и не дерзнул написать эти стихи, если бы они не знали, что Морозову - конец, что у него - репутация кондового сталиниста, что он туп и ограничен и, видимо, сто лет ничего не читал, кроме конспектов своих лекций, созданных еще до войны, сразу после выхода краткого курса. И была у него одна отличительная черта: когда бы кто не зашел на кафедру, всегда заставали его в одной позе - в углу мягкого дивана с "Правдой" или с журналом "Коммунист" в руках. "Неужели он и дома все время сидит в углу дивана с этими самыми изданиями в руках?" - недоумевали они. Но оказалось, что их Иван Болваныч (на самом деле он был Романыч, но они между собой звали его только так: Иван Болваныч) и дома сидел в углу дивана, все что-то чиркая и помечая то в "Правде", то в "Коммунисте". Об этом они узнали от племянницы Болваныча, учившейся у них курсом старше и явно гордившейся неутомимым в изучении теории дядей. Но вот после съезда партии и этого письма под ним закачалось кресло. В институте открыто говорили, что Болваныч вот-вот уйдет. И дернуло его в частушки про студентов написать четыре строки про Болваныча: