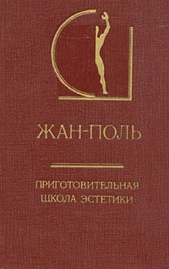Школа жизни великого юмориста

Школа жизни великого юмориста читать книгу онлайн
Авенариус, Василий Петрович, беллетрист и детский писатель. Родился в 1839 году. Окончил курс в Петербургском университете. Был старшим чиновником по учреждениям императрицы Марии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но пока он шарил по карманам, на подъезде показался уже великолепный толстяк-швейцар, завидевший в стеклянную дверь подкатившие утлые извозчичьи санки.
— Отъезжай, отъезжай! — властно гаркнул он на ваньку, а затем с высокомерным недоумением оглядел молодого седока, который пока набелил себе только одну сторону носа. — Вам кого?
— Мне его превосходительство, Логгина Ивановича, — отвечал Гоголь, с замешательством пряча бумажку с косметикой.
— Не принимают.
— Нет? Почему так?
— Хворать изволят.
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! И серьезно прихворнул?
— Очень даже серьезно.
Не находя нужным тратить еще лишние слова, ливрейный страж не спеша вошел обратно в подъезд и звонко хлопнул стеклянного дверью.
— Господин в ливрее! — пробормотал вслед ему Гоголь.
— Какой уж господин — собака! — сочувственно подал голос ванька, отъехавший всего шагов на десять и слышавший весь диалог. — С жиру хозяйского бесится: кто одет поплоше, того облает, а кто почище — перед тем виляет. А теперя, батюшка, что же, обратно на фатеру, я чай, к Кокушкину мосту?
— На фатеру, сыночек, ох, на фатеру…
Временный подъем духа поддерживает и телесные силы, зато с упадком духа тем сильнее реакция. Когда Гоголь вскарабкался к себе на четвертый этаж, то тут же в полном изнеможении повалился на неубранный еще с полу матрац и защелкал зубами от жестокого озноба. Но хозяйка, смотревшая на него уже как на члена своей квартирной семьи, настояла на том, чтобы он совсем улегся, сама накрыла его двумя одеялами и напоила липовым цветом с малиной до второго пота. Яким тем временем напевал панычу про непомерную петербургскую дороговизну: „За десяток репы плати ни много ни мало — 30 копеек! Картофель покупай тоже десятками, точно апельсины“…
— Добивай меня, добивай! — отвечал из-под своих двух одеял паныч, да таким жалобным тоном, что Яким, не допев, умолк.
Незадолго до обеда были доставлены из Апраксина двора закупленные Данилевским кровати с тюфяками и прочая мебель, а к обеду вернулся и он сам. На него, здорового человека, Петербург произвел совершенно иное впечатление, чем на Гоголя, и он своим восторженным настроением несколько подбодрил опять своего раскисшего друга.
— А затем в кофейне я сделал еще очень ценное для меня знакомство с одним отставным кавалеристом, — продолжал Данилевский. — Он прошел также школу подпрапорщиков и сообщил мне целую массу прелюбопытных сведений. Как видишь, и я иду по твоим стопам — занимаюсь изучением обычаев и нравов!
— Например?
— Например, младший курс — вандалы, старший — корнеты, и корнеты муштруют вандалов, потому что отвечают за них перед начальством.
— В чем отвечают?
— В том, чтобы у тех все пуговицы были застегнуты, все ремешки подтянуты; да ведь как самих их подтягивают, как честят отборными словами!
— А вандалы молчи?
— Вандалы молчи. На то и вандалы.
— Поздравляю; завидная у тебя перспектива!
— Что, брат, поделаешь! Всякого варвара надо сперва отполировать хорошенько, чтобы сделаться „полированным“ человеком. Зато я выйду во всяком случае в гвардию.
— Почему же во всяком случае? Прилежанием ты, как и я, никогда особенно не отличался.
— Прилежанием, брат, там никого не удивишь. В „зубрилке“ корнеты заставляют вандалов даже надевать перчатки, чтобы не пачкать рук о „вонючие“ книги — физику, механику. Первое там условие — верховая езда и телесная ловкость. Ну, а по этой части я хоть с кем потягаюсь. „А есть у вас свой конский завод?“ — спросил меня мой новый знакомый. — „Нет, — говорю, — а что?“ — „Да чтобы пыли в глаза пустить. На первый-то хоть раз подъезжайте туда на лихаче, да дайте ему рубль на водку, так, чтобы видел швейцар, от которого потом все другие узнают“ [5].
— Ай да советчик! Подлинно, что ценное знакомство.
Данилевский почесал за ухом, но тотчас беспечно усмехнулся.
— Ценнее, чем ты думаешь, — сказал он. — Сорвал с меня изрядный куш — двадцать целковых!
— Неужто ты, в самом деле, дал незнакомому человеку сразу в долг?
— Нет, он взял их с меня на биллиарде.
— Так! Не можешь отстать от этой глупой страсти. Как ты вообще сошелся с этим франтом?
— А в кофейне, говорю тебе, на Невском, против Казанского собора. Зашел я только закусить; но тут вдруг где-то в третьей комнате слышу — биллиардные шары. Как, скажи, было устоять?
— Тебе-то — еще бы! И мышь на запах в мышеловку лезет.
— Вхожу в биллиардную; там играет какой-то усач с маркером, — не то чтобы неважно, а так, спустя рукава. Проиграл партию, обращается ко мне: „Вы, я вижу, тоже любитель; не желаете ли сразиться?“ — „С удовольствием“. — „А по какой?“ — „Да я, извините, по крупной не играю, — говорю ему, — дело ведь не в выигрыше“. — „Само собою! Но чтобы был все-таки некоторый интерес. Угодно: копейка очко?“ Чего, думаю, скромнее? Больше шести гривен не рискую. „Извольте“, — говорю. Стали мы играть. Играл он по-прежнему кое-как, проиграл мне двадцать очков. „Эй, человек! Коньяку. Не прикажете ли?“ Я поблагодарил: „Простите, не пью“. — „Эх, молодой человек, молодой человек! Ваше здоровье! А теперь не удвоить ли нам куш?“ Отказаться было уже неловко; да при его игре какой же и риск? Тут он стал играть иначе.
— Ага! Старательнее?
— Не то чтобы, нет; кий он держал в руках все так же небрежно, будто и не целясь, а между тем, — удивительное дело! — шары у него так и летали по биллиарду, попадали в лузу: хлоп да хлоп! Глядь: закатил мне сухую. Захохотал, потрепал меня по плечу. „Видали вы, как выигрывают фуксами? Однако с выигрыша я, как угодно, должен вас угостить. Одну хоть рюмочку для храбрости, а?“ — „Увольте…“ — говорю. „Нет, молодой человек, вы меня кровно обидите!“ Налил он мне рюмочку, а коньяк оказался высшего качества так и разлился у меня по жилам. Храбрости у меня, точно, прибавилось: когда он мне теперь предложил играть по гривеннику очко, я уже не стал упираться. Тут он развернулся вовсю; таких клапштосов, триплетов, квадруплетов мне в жизни видать не случалось!
— И вздул тебя напропалую?
— Да, задал мне подряд три комплектных.
— Так тебе, младенцу, и надо. Это, очевидно, профессиональный шулер.
— Может быть, и профессиональный, но профессор в своем деле несомненно; что за комбинации, что за удар, что за чистота отделки! Не жаль, право, и двадцати рублей за урок.
— Благодарю покорно! А платка он у тебя из кармана не вытащил?
— Напротив, он повел себя настоящим джентльменом: после третьей комплектной сам предложил прекратить игру: „Вы нынче не в ударе“. Потом любезно надавал еще разных советов насчет юнкерской школы…
— И не менее любезно обещался дать тебе завтра реванш?
— Да…
— Ну, вот. Но ты, конечно, не пойдешь?
— Право, не знаю… Жаль как-то упустить случай поучиться у такого мастера! Ах, да! Из головы вон, — вспомнил вдруг Данилевский и хлопнул себя по лбу. — Ведь привез тебе оттуда гостинец.
— Откуда?
— Да из той же кофейни. Эй, Яким! В шубе у меня ты найдешь кусок кулебяки, снеси-ка на кухню и разогрей для барина.
— Но у меня нет ни малейшего аппетита, — отговорился Гоголь.
— Пустяки! От одного вида явится. Такая, я тебе скажу, аппетитная штука, что пальчики оближешь.
Глава третья
ИВАН-ЦАРЕВИЧ НА РАСПУТЬЕ
Четыре месяца спустя мы видим двух друзей опять вместе — на Екатерингофском гулянье. В 1829 году, когда железных дорог еще и в помине не было, и цена заграничных паспортов у нас не была еще понижена, когда число дачных мест в окрестностях самого Петербурга было очень ограничено и воздух в Екатерингофе еще не отравлялся нестерпимым смрадом костеобжигательного и других заводов, — тамошний великолепный парк был одним из излюбленных мест гулянья столичного населения, а 1 мая туда тянулся весь Петербург: кто побогаче — в собственном или наемном экипаже, кто победнее — на своих на двоих. В числе последних были также Гоголь и Данилевский, двигавшиеся вперед шаг за шагом среди густой разряженной толпы по главной аллее. И они были одеты по-праздничному: Гоголь в новом весеннем плаще и новом цилиндре, надвинутом довольно отважно на одно ухо; Данилевский же, еще два месяца назад принятый в школу гвардейских подпрапорщиков, — в новой юнкерской форме, которая шла как нельзя лучше к его стройной, молодцеватой фигуре, к его красивому, цветущему лицу. Замечая, как он привлекает взоры всех встречающихся им особ прекрасного пола, он весело поглядывал по сторонам, одним ухом только слушая, что ему рассказывал в это время приятель про недавно закрывшуюся выставку в Академии художеств.