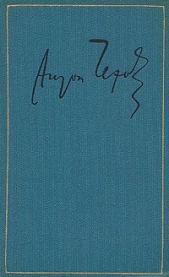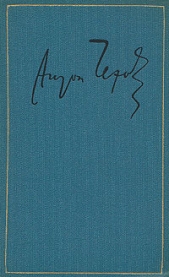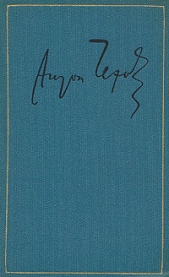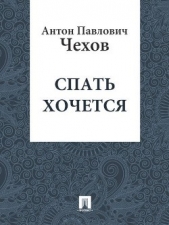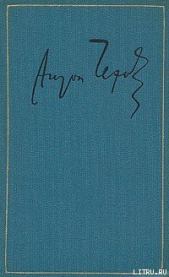Том 7. Рассказы, повести 1888-1891
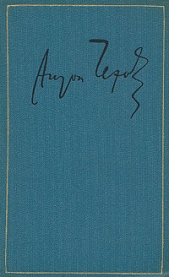
Том 7. Рассказы, повести 1888-1891 читать книгу онлайн
Полное собрание сочинений и писем Антона Павловича Чехова в тридцати томах — первое научное издание литературного наследия великого русского писателя. Оно ставит перед собой задачу дать с исчерпывающей полнотой всё, созданное Чеховым.
В седьмой том входят рассказы и повести 1888–1891 годов.
В данной электронной редакции опущен раздел «Варианты».
http://ruslit.traumlibrary.net
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Три часа ожидания прошли незаметно. Мне казалось, не успел я наглядеться на Машу, как Карпо съездил к реке, выкупал лошадь и уж стал запрягать. Мокрая лошадь фыркала от удовольствия и стучала копытами по оглоблям. Карпо кричал на нее «наза-ад!» Проснулся дедушка. Машя со скрипом отворила нам ворота, мы сели на дроги и выехали со двора. Ехали мы молча, точно сердились друг на друга.
Когда часа через два или три вдали показались Ростов и Нахичевань, Карпо, всё время молчавший, быстро оглянулся и сказал:
— А славная у армяшки девка!
И хлестнул по лошади.
В другой раз, будучи уже студентом, ехал я по железной дороге на юг. Был май. На одной из станций, кажется, между Белгородом и Харьковом, вышел я из вагона прогуляться по платформе.
На станционный садик, на платформу и на поле легла уже вечерняя тень; вокзал заслонял собою закат, но по самым верхним клубам дыма, выходившего из паровоза и окрашенного в нежный розовый цвет, видно было, что солнце еще не совсем спряталось.
Прохаживаясь по платформе, я заметил, что большинство гулявших пассажиров ходило и стояло только около одного вагона второго класса, и с таким выражением, как будто в этом вагоне сидел какой-нибудь знаменитый человек. Среди любопытных, которых я встретил около этого вагона, между прочим, находился и мой спутник, артиллерийский офицер, малый умный, теплый и симпатичный, как все, с кем мы знакомимся в дороге случайно и не надолго.
— Что вы тут смотрите? — спросил я.
Он ничего не ответил и только указал мне глазами на одну женскую фигуру. Это была еще молодая девушка, лет 17–18, одетая в русский костюм, с непокрытой головой и с мантилькой, небрежно наброшенной на одно плечо, не пассажирка, а, должно быть, дочь или сестра начальника станции. Она стояла около вагонного окна и разговаривала с какой-то пожилой пассажиркой. Прежде чем я успел дать себе отчет в том, что я вижу, мною вдруг овладело чувство, какое я испытал когда-то в армянской деревне.
Девушка была замечательная красавица, и в этом не сомневались ни я и ни те, кто вместе со мной смотрел на нее.
Если, как принято, описывать ее наружность по частям, то действительно прекрасного у нее были одни только белокурые, волнистые, густые волосы, распущенные и перевязанные на голове черной ленточкой, всё же остальное было или неправильно, или же очень обыкновенно. От особой ли манеры кокетничать или от близорукости, глаза ее были прищурены, нос был нерешительно вздернут, рот мал, профиль слабо и вяло очерчен, плечи узки не по летам, но тем не менее девушка производила впечатление настоящей красавицы, и, глядя на нее, я мог убедиться, что русскому лицу для того, чтобы казаться прекрасным, нет надобности в строгой правильности черт, мало того, даже если бы девушке вместо ее вздернутого носа поставили другой, правильный и пластически непогрешимый, как у армяночки, то, кажется, от этого лицо ее утеряло бы всю свою прелесть.
Стоя у окна и разговаривая, девушка, пожимаясь от вечерней сырости, то и дело оглядывалась на нас, то подбоченивалась, то поднимала к голове руки, чтобы поправить волосы, говорила, смеялась, изображала на своем лице то удивление, то ужас, и я не помню того мгновения, когда бы ее тело и лицо находились в покое. Весь секрет и волшебство ее красоты заключались именно в этих мелких, бесконечно изящных движениях, в улыбке, в игре лица, в быстрых взглядах на нас, в сочетании тонкой грации этих движений с молодостью, свежестью, с чистотою души, звучавшею в смехе и в голосе, и с тою слабостью, которую мы так любим в детях, в птицах, в молодых оленях, в молодых деревьях.
Это была красота мотыльковая, к которой так идут вальс, порханье по саду, смех, веселье и которая не вяжется с серьезной мыслью, печалью и покоем; и, кажется, стоит только пробежать по платформе хорошему ветру или пойти дождю, чтобы хрупкое тело вдруг поблекло и капризная красота осыпалась, как цветочная пыль.
— Тэк-с… — пробормотал со вздохом офицер, когда мы после второго звонка направились к своему вагону.
А что значило это «тэк-с», не берусь судить.
Быть может, ему было грустно и не хотелось уходить от красавицы и весеннего вечера в душный вагон, или, быть может, ему, как и мне, было безотчетно жаль и красавицы, и себя, и меня, и всех пассажиров, которые вяло и нехотя брели к своим вагонам. Проходя мимо станционного окна, за которым около своего аппарата сидел бледный рыжеволосый телеграфист с высокими кудрями и полинявшим скуластым лицом, офицер вздохнул и сказал:
— Держу пари, что этот телеграфист влюблен в ту хорошенькую. Жить среди поля под одной крышей с этим воздушным созданием и не влюбиться — выше сил человеческих. А какое, мой друг, несчастие, какая насмешка, быть сутулым, лохматым, сереньким, порядочным и неглупым, и влюбиться в эту хорошенькую и глупенькую девочку, которая на вас ноль внимания! Или еще хуже: представьте, что этот телеграфист влюблен и в то же время женат и что жена у него такая же сутулая, лохматая и порядочная, как он сам… Пытка!
Около нашего вагона, облокотившись о загородку площадки, стоял кондуктор и глядел в ту сторону, где стояла красавица, и его испитое, обрюзглое, неприятно сытое, утомленное бессонными ночами и вагонной качкой лицо выражало умиление и глубочайшую грусть, как будто в девушке он видел свою молодость, счастье, свою трезвость, чистоту, жену, детей, как будто он каялся и чувствовал всем своим существом, что девушка эта не его и что до обыкновенного человеческого, пассажирского счастья ему с его преждевременной старостью, неуклюжестью и жирным лицом так же далеко, как до неба.
Пробил третий звонок, раздались свистки и поезд лениво тронулся. В наших окнах промелькнули сначала кондуктор, начальник станции, потом сад, красавица со своей чудной, детски-лукавой улыбкой…
Высунувшись наружу и глядя назад, я видел, как она, проводив глазами поезд, прошлась по платформе мимо окна, где сидел телеграфист, поправила свои волосы и побежала в сад. Вокзал уж не загораживал запада, поле было открыто, но солнце уже село, и дым черными клубами стлался по зеленой бархатной озими. Было грустно и в весеннем воздухе, и на темневшем небе, и в вагоне.
Знакомый кондуктор вошел в вагон и стал зажигать свечи.
Именины *
После именинного обеда, с его восемью блюдами и бесконечными разговорами, жена именинника Ольга Михайловна пошла в сад. Обязанность непрерывно улыбаться и говорить, звон посуды, бестолковость прислуги, длинные обеденные антракты и корсет, который она надела, чтобы скрыть от гостей свою беременность, утомили ее до изнеможения. Ей хотелось уйти подальше от дома, посидеть в тени и отдохнуть на мыслях о ребенке, который должен был родиться у нее месяца через два. Она привыкла к тому, что эти мысли приходили к ней, когда она с большой аллеи сворачивала влево на узкую тропинку; тут в густой тени слив и вишен сухие ветки царапали ей плечи и шею, паутина садилась на лицо, а в мыслях вырастал образ маленького человечка неопределенного пола, с неясными чертами, и начинало казаться, чго не паутина ласково щекочет лицо и шею, а этот человечек; когда же в конце тропинки показывался жидкий плетень, а за ним пузатые ульи с черепяными крышками, когда в неподвижном, застоявшемся воздухе начинало пахнуть и сеном и медом и слышалось кроткое жужжанье пчел, маленький человечек совсем овладевал Ольгой Михайловной. Она садилась на скамеечке около шалаша, сплетенного из лозы, и принималась думать.
И на этот раз она дошла до скамеечки, села и стала думать; но в ее воображении вместо маленького человечка вставали большие люди, от которых она только что ушла. Ее сильно беспокоило, что она, хозяйка, оставила гостей; и вспоминала она, как за обедом ее муж Петр Дмитрич и ее дядя Николай Николаич спорили о суде присяжных, о печати и о женском образовании; муж по обыкновению спорил для того, чтобы щегольнуть перед гостями своим консерватизмом, а главное — чтобы не соглашаться с дядей, которого он не любил; дядя же противоречил ему и придирался к каждому его слову для того, чтобы показать обедающим, что он, дядя, несмотря на свои 59 лет, сохранил еще в себе юношескую свежесть духа и свободу мысли. И сама Ольга Михайловна под конец обеда не выдержала и стала неумело защищать женские курсы — не потому, что эти курсы нуждались в защите, а просто потому, что ей хотелось досадить мужу, который, по ее мнению, был несправедлив. Гостей утомил этот спор, но все они нашли нужным вмешаться и говорили много, хотя всем им не было никакого дела ни до суда присяжных, ни до женского образования…