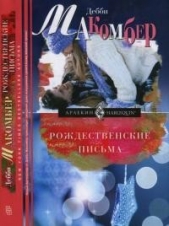Рождественские рассказы

Рождественские рассказы читать книгу онлайн
Сборник рассказов. Текст печатается по изданию «Полное собрание сочинений Н.Н.Каразина, т.4, Издатель П.П.Сойкин, С.-Петербург, 1905» в переводе на современную орфографию.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ирен царила повсюду; ее баловали и ласкали. Даже недоступная баронесса фон Шпек брала ее под свое особенное покровительство и украшала стройной фигурой молодой красавицы самые видные места в витринах и киосках великосветских благотворительных балов и базаров.
Ирен обладала даже замечательной способностью к сцене и приятным меццо-сопрано; ее приглашали на разрыв играть в разных благородных спектаклях, а уж про участие в живых картинах и говорить нечего: она даже позировала раз в роли истины с зеркалом в руках, выходящей из глубины колодца... Вышло более чем блистательно — целую неделю на всех «файфофклоках» говорили об этом героическом подвиге — «lа belle Poupicoff», ставшей с этого вечера знаменитостью.
Притворные, по воле автора, объяснения в любви на сцене сменялись еще более жаркими и даже почти искренними в уборных и в полутемных уголках за кулисами.
Из-за Ирен было уже четыре дуэли, кончившиеся, впрочем, довольно благополучно, без вмешательства полиции и прокурора, хотя один из дуэлистов предстал перед своей красавицей с рукой, временно подвешенной на черной шелковой ленте.
Если б Ирен решилась, уступая мольбам, дать хотя бы по крохотному кусочку своего сердца всем молящим о таковом счастье, то ее сердце должно было по своей величине равняться, по крайней мере, вновь отстроенному дому «гвардейских потребителей» на углу Кирочной улицы, но красавица наша твердо решила отдать свое сердце только с рукой вместе — все же поклонники ее, в своих мольбах, о руке конечно умалчивали.
Ирен начинала слегка недоумевать, а потом даже не на шутку сердиться, что не могло не портить ее характера, срываемого на «дураке папá», на «глупой тумбе мамá», чаще же всего на неловкой горничной — Марфуше.
А годы шли.
Когда Ирен стукнуло двадцать пять, двадцать два по официальному счету, Ирен, в день своего рождения, разбираясь в грудах бонбоньерок и дорогих цветочных подношений, произнесла:
— Какая все это дрянь!
Но замечание это не относилось ни к цветам, ни к бонбоньеркам.
— Шантрапа и сволочь! — энергично поддакнула ей маменька, особа когда-то тоже замечательно красивая, но на пороге к старости сильно ожиревшая, награжденная уже одышкой и легкими отеками конечностей.
И обе они были, хотя и резки в своих суждениях, но правы.
Правда, было несколько предложений довольно положительных, совсем, как следует, по закону, но эти предложения исходили от таких лиц, что у бедной Ирен кровь стыла от мысли стать женой подобного субъекта — те же, кто были ей по сердцу, ни разу не обмолвились желанным словом даже в такие минуты, когда их сильно к сему подбодряли, вызывая на решительность.
А время все-таки шло, и материальное положение Ирен со своей маменькой все ухудшалось и ухудшалось.
А тут скоропостижно скончался «дурак папá».
Покойный состоял на полугосударственной службе и, хотя занимал незначительное по рангу место, но сопряженное с весьма порядочным окладом, что-то около пяти тысяч в год. Он был очень аккуратный человек и каждое двадцатое число распределял полученное жалованье таким образом: двести рублей выдавалось на руки Екатерине Ивановне — супруге, а двести оставались в его собственном распоряжении. Он обязан был из своей половины оплачивать квартиру и все свои личные потребности, включая сюда изредка вино и закуску. Она должна была содержать дом, платить прислуге и заботиться о том, чтобы все домашние были приличны и сыты. Попечения о нарядах и о выездах дочки лежали также на обязанности маменьки, которая никогда не роптала на недостаточность средств, никогда не требовала большего, но не терпела только вопросов и сомнений, когда ее затраты до очевидности превышали узаконенный бюджет.
Она была ведь очень видная и привлекательная дама, это только теперь время и болезнь так ее обезоружили... А когда, мало-помалу, стали сходить с горизонта ее прежние покровители и поклонники, Екатерина Ивановна в справедливом гневе проклинала весь мир, мужскую же половину его в особенности, и говорила дочери:
— Ириша, верь мне: все мужчины подлецы! Все, все, все!..
Маменька Ирен не воспитывалась в фешенебельной гимназии и потому выражалась резче, чем следует, или, по крайней мере, принято выражаться в порядочном обществе.
По смерти папы дела приняли прескверный оборот. Пенсион, при самых усиленных просьбах и продолжительных хлопотах, определился в четыреста рублей восемьдесят и три четверти копейки в год. Екатерина Ивановна с горя заболела; у Ирен разом появились два седых волоса...
Началась энергичная, лихорадочная, нервная и озлобленная борьба за существование, в которой, чтобы сохранить приличие обычного положения, а с ним хотя бы смутную надежду на спасительную партию, надо было пустить в ход всю изворотливость женского ума, всю мощь запоздалого кокетства, всю энергию духа, с беззаботной, чарующей улыбкой на устах, с глухой злобой в сердце, с ненавистью в душе.
А жизнь, живая жизнь в созрелом организме красавицы Ирен настойчиво предъявляла свои права, разжигая ее накипевшую злобу на все человечество вообще, а уж про мужчин и говорить нечего...
И она решила — или погибнуть, высохнуть старой девой, или победить, но не сдаваться на позорную капитуляцию. Не раз маменька, глубоко вздыхая, глядя с тоской на свою дочь, говорила, всегда при этом понижая голос до шепота:
— Ах, дружок мой, ведь и вправду... на какого черта ты бережешь свое сокровище?.. Я в твои годы...
Она никогда не договаривала, что бывало в ее годы, и безнадежно махала рукой, боясь, как бы не произошла опять такая же бурная выходка со стороны ее дочери, как всегда после намека в этом роде.
А протесты со стороны Ирен бывали чересчур уж бурны... Да что говорить! Выносливая и ко всему привычная прислуга, живущая в доме за пять рублей «одной прислугой» на всякие дела, не выживала более месяца.
Хотя Ирен решила остановиться на двадцати двух годах, эти годы бунтовали и на запрет красавицы не обращали никакого внимания, но шли своим чередом. А все-таки в конце третьего десятка Ирен сохранила почти всю привлекательность красоты, особенно когда обуздывала корсетом порывы ее прелестей на простор и свободу...
Многое переменилось. Там, где когда царила «Lа belle Poupicoff», давно уже забыли гордую красавицу. Маменька с дочкой давно уже переселились в глухой переулок на Выборгскую сторону, столуя у себя пятерых студентов медиков, всех пятерых платонически влюбленных в свою молодую хозяйку, несмотря на ее холодную недоступность и строгость в обращении. И все бы продолжалось так серо, неуютно и безотрадно, если бы однажды, накануне рождественских праздников, с ними не случилось совершенно неожиданно необыкновенное происшествие.
Вы знаете, что все необыкновенные происшествия происходят большей частью накануне Рождества и всегда ровно в полночь. Таков уж закон судьбы и, чтобы поддержать присущую писателю правдивость, вышеозначенная пометка времени не только не лишняя, но прямо-таки обязательна.
В маленькой комнате, при тусклом свете лампы под зеленым абажуром, сидела Ирен, переделывая в двадцатый раз свою единственную выходную шляпку. Она швырнула ножницы на пол и свирепо принялась обрывать вылинявшие ленты. Маменька, закутав свои больные ноги одеялом, сидела у другого конца стола и раскладывала засаленные карты, гадая на даму треф. Кухарка Лукерья, за кухонной перегородкой, звучно похрапывала. В печной трубе уныло завывал ветер, в стекла хлестал мокрый снег, и в ночной тишине издалека доносились, со стороны гавани, глухие удары вестовых пушек...
— Ты не сердись, милая, и не волнуйся... — начала вкрадчиво маменька... — Конечно, это вздор, это все смешно, но вчера опять без тебя приходил Иван Спиридонович…
Ирен только бегло взглянула на мать и встала, чтобы поднять ножницы.
— Майор пожарный, знаешь? — продолжала Катерина Ивановна, помолчав с минуту. — Лукерью нашу вызывал... Как это он странно говорил!.. Да, да... Проложи, говорит, мне траншею — озолочу!.. Полтинник сунул ей на кофий...