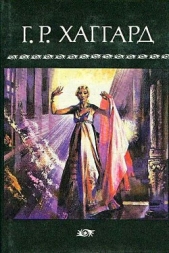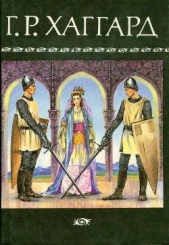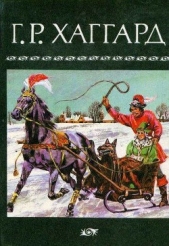Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856
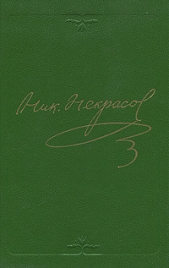
Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856 читать книгу онлайн
В состав восьмого тома входят прозаические произведения 1841–1856 гг., в большинстве своем незавершенные и не опубликованные целиком при жизни Некрасова. К ним относятся «Жизнь и похождения Тихона Тростникова», «Сургучов», «Тонкий человек, его приключения и наблюдения», «В тот же день часов в одиннадцать утра…» — повесть, известная в литературе под условным названием «Каменное сердце» или «Как я велик!». Законченной является лишь «Повесть о бедном Климе», но и над ней, судя по рукописи и по тому, что некоторые ее главы использованы в романе о Тростникове, Некрасов продолжал работать.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вошел небольшой старичок в черном довольно длинном сюртуке, держа в одной руке начатую бутылку шампанского, а в другой — старую, измятую шляпу. Подошед к бильярду очень нетвердым шагом, он поставил свою шляпу на сукно и начал пить из бутылки.
— Полноте, полковник! — сказал высокий господин в черном фраке, принимая шляпу с бильярда и подавая ее новопришедшему…
Господин, которого назвали полковником, надел шляпу на голову и сказал голосом пьяного:
— Постойте! Я хочу держать пари!
Он бросил на бильярд пучок ассигнаций.
— За кого вам угодно? — спросил один из присутствующих.
— За кого хотите! Мне всё равно!
— А сколько вы держите?
Старичок взял свои деньги, помял их в руке и опять бросил на бильярд, сказав:
— Двести, триста, четыреста рублей. У меня еще есть, если мало…
Он бросил на бильярд еще пучок ассигнаций, потянул из бутылки и затянул на голос «Чем тебя я огорчила»;
В двенадцать часов по ночам Из гроба встает барабанщик…
— Держите за меня! — шепнул мне господин в черном фраке. — Я с вами в третьей доле…
Я объявил желание держать сто рублей за черного господина, и партия пошла своим чередом. Высокий проиграл; невысокий выиграл…
— Есть! — вскричал пьяненький старичок и спросил:- Хотите еще?
Я оглянулся кругом и увидел на всех лицах какую-то странную, двусмысленную улыбку. Франт красивой наружности не выдержал и расхохотался.
— Чего ты смеешься? — спросил я.
— Не держи больше, душа моя…
Я понял, в чем дело, и сам принялся хохотать. Господа, которых наружность теперь только показалась мне подозрительного, взялись за шляпы.
— А что же ваша третья доля? — шепнул я, когда господин черной наружности проходил мимо меня.
— Да разве вы согласились? Ведь вы ничего не сказали!
И он удвоил шаги…
Мы играли и пили; потом стали обедать. В комнате, которую мы заняли, стоял, как говорится, стон от щелканья пробок и беспрестанных острот. Это было в субботу. Когда стало смеркаться, приятели мои стали расходиться к франту чрезвычайной наружности, где еженедельно по субботам были вечера, на которых играли в карты, пили и курили до утра другого дня. Франт звал и меня, но я отказался и ушел домой. Несмотря на хмель, который начал овладевать мною, я чувствовал себя в чрезвычайно дурном расположении духа: мысль о разругавших меня журналах не выходила из моей головы. План водевиля был уже готов.
Я пришел домой, очинил перо и погрузился в глубокое размышление, придумывая журналистам, которые должны были действовать в моем водевиле, фамилии, которые бы напоминали их собственные. С важностью, приличной предмету, я по временам потирал свой лоб и глубокомысленно взглядывал на потолок, степы, окошки моего кабинета и, наконец, на дверь, которая вела в квартиру, смежную с моею, и была наглухо заперта…
Вдруг за этой дверью послышался разговор, сперва тихий и прерывистый, потом громче, громче и громче. Говорят двое: один голос, по-видимому женский, дрожит и отзывается страхом и смущением; другой, мужской, как-то странно расплывается, как будто хочет тоже казаться женским.
Кому бы, кажется, разговаривать? Неугомонный сосед мой, слава богу, на днях съехал… Или уже на место его нашелся другой?
Разговор становится громче; я могу уже явственно расслышать некоторые слова. Мужской голос говорит что-то о брильянтах, карете и счастии; женский — произносит междометия, выражающие отчаяние, гнев, отрицание.
— Ай-ай! что вы делаете! Я подошел к самой двери…
— Вы разорвали мою косынку!
— Я тебе подарю десять, резвушка, шалунья, упрямица…
Звук поцелуя и затем стук, похожий на беготню двух человек, из которых один старается убежать, а другой догнать убегающего…
— Пустите меня! Я закричу!..
Опять беготня, нежный, умоляющий шепот мужского голоса, и вдруг — звук пощечины.
— Ну так ты от меня не уйдешь. Беготня.
— Я закричу!
— Кричи.
Крик ужаса и отчаяния.
Я вспомнил Матильду, вспомнил историю ее невольного падения, и волосы стали дыбом на голове моей.
Крик повторился громче и продолжительнее…
Дверь, у которой я стоял, как все двери, состояла из двух половинок, запиралась нутряным замком и имела, в подкрепление замку, сверху и снизу задвижки, которые, по счастию, находились на наружной стороне двери и именно на той, которая выходила в мой кабинет.
Крик опять повторился…
Медлить было невозможно. Я отодвинул задвижки и так сильно дернул за ручку двери, что едва удержался на ногах.
Вы в довольно обширной комнате, выкрашенной зеленою краскою; она совершенно пуста, как все отдающиеся квартиры; на карнизах ее слоями лежит паутина, от которой идут отростки во все стороны комнаты, пересекая ее длинными нитями, которые попадают на лицо, на руку и на брюки; на потолке нарисован петух, слетающий в виде крылатого гения поэзии на голову рослого парня, держащего в руке самовар, похожий на лиру, и дева, в натуре, держащая венок над головою парня; стены испещрены множеством дыр, доказывавших, что прежний хозяин квартиры был человек расчетливый до того, что вытаскал даже гвозди, которые вколачивал для своих потребностей; наконец, нижний карниз, выкрашенный желтою краскою и обгибавший комнату в виде каймы, был испещрен белыми полосками, доказывавшими, что со стен текла сырость. Я удивился нерадению, совершенно противоречащему той заботливости, с которою петербургские домовладельцы стараются сбыть квартиры, и получил о своем дворнике весьма невыгодное понятие…
Я увидел старика и молодую девушку. При взгляде на старика я не мог не расхохотаться: кроме разных других беспорядков, о которых здесь умалчивается, голова старика была совершенно лысая, что составляло разительный и в высшей степени забавный контраст с франтовским, изысканным нарядом его. Ио при взгляде на девушку сердце мое мучительно сжалось…
С радостным криком бросилась она ко мне и доверчиво схватила меня за руку.
— Заступитесь за меня! — сказала она. — Ах; боже мой! Боже мой!
— Не бойся ничего, — отвечал я тоном защитника угнетенной невинности. — Я беру тебя под свою защиту. Тот, — прибавил я, обращаясь к старику, который, отворотившись в противную сторону и несколько нагнувшись, занимался в то время приведением в порядок одного очень важного беспорядка, — тот, кто вздумал бы оскорбить эту девушку, отныне будет иметь дело со мною.
— Стыдно… бы… благородный человек… мешаться не в свои дела… девчонка… дворничиха… — пробормотал «неизвестный» и при последнем слово обернулся лицом ко мне.
Я увидел сухое, желтое лицо старика, щегольски разодетого, — и не мог не расхохотаться. Теперь только заметил я, что он был без парика, который лежал на полу под моими ногами…
Девушка теперь только увидела недостаток парика <и> также расхохоталась.
— Смейся! Смейся, бесенок! — сказал старик язвительно. — Отольются кошке мышьи слезки!
Он бросил на нее взгляд, вооруженный той степенью зверства, на какой был способен. Девушка задрожала и робко прижалась ко мне. Я счел нужным прочесть старику моральную сентенцию, приличную настоящему случаю, которая была довольно длинна. Молодые люди всего охотнее читают наставления старикам.
Старик ушел, не дослушав моей сентенции…
— Тебе холодно? — сказал я девушке, заметив, что рука ее дрожит. — Войди в мою комнату, там потеплее.
Девушка ничего не отвечала.
— Отпустите меня домой, — сказала она. — Я буду за вас молиться.
— Хорошо. Но как ты пойдешь? Страшный холод. Тебе надобно обогреться.
— Я живу недалеко. Здесь в доме.
— Как здесь?
— Да. Там. Внизу. Мой батюшка — дворник.
— Как же я тебя не видал никогда прежде?
— Днем меня не бывает дома. Я хожу торговать.
— Войди же ко мне. Мне хочется узнать, как ты попала сюда.
Она колебалась и молчала.
— Вы мне ничего не сделаете? — спросила она робко.