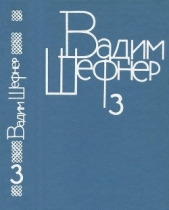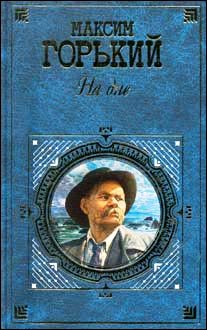Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917

Том 10. Сказки, рассказы, очерки 1910-1917 читать книгу онлайн
В десятый том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1910–1917 годах. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «Сказки об Италии», «Романтик», «Жалобы», «Мордовка», «Н.Е. Каронин-Петропавловский», «Три дня», «Случай из жизни Макара», «Русские сказки». Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. Большая часть их в последний раз редактировалась писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923–1927 годов.
Остальные произведения включаются в собрание сочинений впервые. За немногими исключениями эти произведения М. Горький повторно не редактировал.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Фома Вараксин не любил ждать долго: в воскресенье он надел свой лучший пиджак, у которого одна пола вытянулась отчего-то длиннее другой, а воротник всегда влезал на затылок, надел рубаху с накрахмаленной грудью и обшлагами, с которых надо было остричь махры, привязал синий, с красными горошинами, галстук, приподнял плечи как мог выше и — пошёл к Лизе.
Ясный зимний день весь блестел в уборах инея, в бархатном одеянии снега, укрепляя в груди Фомы радостное решение, подсказывая ему яркие, чистые слова. Белые мохнатые проволоки телеграфа вытянулись на воздухе так красиво, прямо к той улице, где жила девушка, которую Фома не однажды уже и без тени сомнения мысленно называл своей невестой и женой. Хороший был день, радостный, полный света, полный блеском серебряных искр.
— Ах, — это вы? — сказала Лиза, открыв ему двери своей комнаты.
— Пришли или уходите? — спросил Фома, улыбаясь и крепко стиснув её руку.
— Ухожу, — сказала она, сморщившись, и подула на пальцы, махая ими перед лицом. На голове у неё была надета котиковая шапочка, на левой руке перчатка.
— Ну, я долго не задержу вас! — пообещал Фома, усаживаясь на стул в пальто и хлопая шапкой по колену.
— Что это вы сияющий какой? — спросила Лиза, скользя голубыми глазами по его фигуре.
Он ответил не сразу, любовно и пристально осматривая её, маленькую, круглую и румяную, точно яблоко.
«Куколка!» — мелькнуло у него в голове.
Она ходила по комнате от двери к окну, постукивая о пол каблуками: взглянет в окно, потом на гостя, брови её вздрогнут, и она, покачиваясь, тихонько двигается к двери. Ему показалось, что сегодня лицо у неё более строго и озабоченно, чем всегда.
«Может быть, чувствует?» — подумал он.
— Сейчас я вам объясню, почему я сияющий, — сказал Фома вслух и предложил ей: — Садитесь, пожалуйста!
Она повела плечами и неохотно или нерешительно села против него.
— Ну-с?
Фома наклонился к ней, протянул руку с жёлтыми ногтями, окрашенными политурой, и заговорил тихим голосом, мягко и ласково:
— Знаете, товарищ Лиза, я хочу сказать вам одно слово! — Он привстал, взмахнул рукой, указывая вперёд, и внушительно воскликнул: — До полного!
— Что такое? — спросила Лиза, улыбаясь.
— Я объясню: идёт пароход по реке тихо — тихим ходом, не зная фарватера, но вот дело выясняется. «Средний ход!» — кричит капитан в машину, а дальше, когда нет сомнений, что путь хорош, капитан командует: «До полного!»
Лиза недоуменно раскрыла глаза и молчала, покусывая губы мелкими белыми зубами.
— Не поняли? — спросил Фома, подвигаясь к ней.
— Н-нет! Кто это — капитан?
— Капитан? Вы! И я — мы оба капитаны своей жизни — вы и я! Нам принадлежит право командовать судьбой — так?
— Ну да, но — в чём же дело? — воскликнула девушка, смеясь.
Фома протянул к ней руки и повторил сорвавшимся голосом:
— До полного, товарищ! Вы знаете нас, меня и всех, — идите к нам, с нами до полного единения!
Лиза встала, ему показалось, что по лицу её прошла тень и стёрла румянец со щёк, погасила ясный блеск глаз.
— Не понимаю! — приподняв плечи, говорила она. — Это же само собою разумеется, — конечно, я с вами… если уж… Почему вы говорите это? В чём дело?
Фома схватил её руки жёсткими ладонями и, потрясая их, почти кричал:
— Само собой разумеется! Чудесно, товарищ! Я так и знал… Конечно, вы — вы пойдёте!
— Куда? — тревожно спросила она, выдёргивая свои пальцы. — Вы не кричите, я же не одна живу… Куда идти?
Её голос звучал сердито и немного возмущённо, — Фома услыхал это и торопливо объяснил:
— Замуж за меня, я предлагаю! До полного уж! Знаете, что это будет, — наша жизнь, товарищ? Какой будет праздник…
Стоя перед нею, чертя и рассекая воздух руками, он стал рисовать давно одуманные картины совместной жизни, работы, картины жизни в ссылке, говорил и всё понижал голос, ибо ему казалось, что Лиза словно тает, становится тоньше, ниже и отодвигается от него.
— Господи, какая глупость! — услыхал он подавленный, обиженный возглас. — Какая пошлость!
Фоме показалось, что кто-то незаметно подскочил к нему и закрыл ему рот так крепко, что в груди сразу остановилось сердце и стало невозможно дышать.
— Как вам не стыдно, Фома! — слышал он возмущённый, тихий голос. — Это же — ужасно, слушайте! Это — глупо, — неужели вы не понимаете? Ой, как нехорошо, как нехорошо!
Ему казалось, что девушка уходит в стену, прячется в портретах — и лицо её становится такое же серое, мёртвое, как на фотографиях, около её головы и над нею. Она дёргала себя за косу одною рукою, а другой отталкивала воздух перед собой и, всё сокращаясь, говорила тихо, но резко:
— Неужели не стыдно вам видеть во мне только женщину?
Фома забормотал, разводя руками:
— Почему же? Я — не женщину, а вообще… как люди, мы с вами…
— Какое же это товарищество? — спрашивала она. — Как же я теперь должна буду смотреть на вас? За что вы меня оскорбили, за что?
Фома не помнил, как он ушёл из маленькой комнаты со множеством фотографий на стенах, и не помнил, как он простился с Лизой, каковы были её последние слова, — она окончательно слилась, растаяла в серых пятнах, среди суровых учительских лиц, стала подобной им и такой же, как они, внушающей холодное, строгое почтение.
Он ходил по улицам, ничего не видя, кроме каких-то туманных кружков перед глазами, натягивал шапку на голову и думал сосредоточенно, упрямо и тоскливо:
«Почему — глупости? И стыдно — почему? Пошлость? Женщина? Что ж такое женщина? Разве это важно, это? Если когда две души в одной идее, — что ж такое, что женщина?»
И снова туго натягивал шапку на уши: голова его зябла, точно набитая льдом, и это ощущение холода было так остро, что сердце от него ныло, словно после угара.
Хоронили солдата, четверо бравых ребят в мундирах, мерно и широко шагая, несли гроб, и он хорошо, правильно так, покачивался на холодном воздухе. Впереди шёл барабанщик, ловко стукал палочками по холодной коже и рассыпал в воздухе дробную внушительную трель. Сзади шагал целый взвод с ружьями на плечах, головы солдат были повязаны чёрными наушниками, и все они, казалось, ранены глубокими ранами.
А сбоку гроба бежала, поджав хвост, маленькая серая собачка, и когда барабанщик переставал бить похоронную дробь, она подскакивала к нему, а когда палочки его снова трещали — собака, отпрыгнув в сторону, робко и печально взвизгивала.
Фома Вараксин с большим усилием снял шапку, прислонился спиной к забору, смотрел на странных солдат, вздрагивал от холода, наполнявшего грудь, и думал, словно спрашивая кого-то:
«Почему — стыдно?»
Фёдор Дядин
Чёрные линии железной решётки окна разрезали мутное небо на шесть квадратных кусков, в камеру со двора густо льются растворённые зноем душные запахи тюрьмы и безличные звуки вялой, подавленной жизни. Время тает медленно.
Дядин осторожно двигается вдоль стены и, быстро взмахивая рукой, ловит мух. Поймав муху, не торопясь разгибает пальцы один за другим, и, когда насекомое вылетит, он, поднимая брови, смотрит вслед ему сосредоточенным взглядом круглых тёмных глаз. Иногда, строго поджимая губы, он обрывает мухе крылья и, брезгливо стряхнув её с ладони на пол, вытирает рукавом рубахи мелкие капли пота со лба и щёк.
Его движения гибки и сильны, но спина согнута и голова — должно быть невольно — опускается на грудь. Солдат с досадой вскидывает её, хмурясь оглядывается на дверь камеры и точно слушает глазами — густые ресницы вздрагивают, прикрывая расширенные зрачки, тёмные усы шевелятся, худощавое лицо каменеет, принимая выражение упрямое и холодное.
В коридоре сонно бормочут — точно молятся — усталые голоса, сливаясь в тихий поток неясного ропота, — это унтер Макаров учит молодых солдат словесности, и порою всплывает его властный, сиплый голос:
— Не упирай на он! Говори ча-со-вой! а не чо-со-вой… дура пермская!