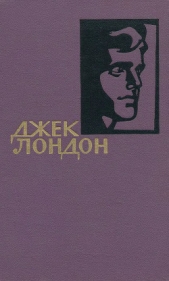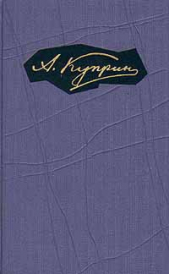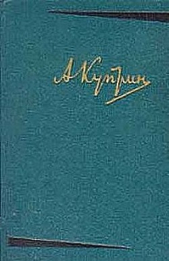Том 4. Произведения 1905-1907
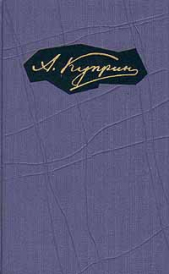
Том 4. Произведения 1905-1907 читать книгу онлайн
В четвертый том вошли произведения 1905–1907 гг.: «Поединок», «Штабс-капитан Рыбников», «Тост», «Счастье», «Убийца», «Река жизни», «Обида», «На глухарей», «Легенда», «Искусство», «Демир-Кая», «Как я был актером», «Гамбринус», «Слон», «Бред», «Сказочки», «О Думе», «О конституции», "Механическое правосудие", "Исполины", "Изумруд", "Мелюзга".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ромашов обернулся назад и побледнел. Вся его полурота вместо двух прямых стройных линий представляла из себя безобразную, изломанную по всем направлениям, стеснившуюся, как овечье стадо, толпу. Это случилось оттого, что подпоручик, упоенный своим восторгом и своими пылкими мечтами, сам не заметил того, как шаг за шагом передвигался от середины вправо, наседая в то же время на полуроту, и, наконец, очутился на ее правом фланге, смяв и расстроив общее движение. Все это Ромашов увидел и понял в одно короткое, как мысль, мгновение, так же как увидел и рядового Хлебникова, который ковылял один, шагах в двадцати за строем, как раз на глазах генерала. Он упал на ходу и теперь, весь в пыли, догонял свою полуроту, низко согнувшись под тяжестью амуниции, точно бежа на четвереньках, держа в одной руке ружье за середину, а другой рукой беспомощно вытирая нос.
Ромашову вдруг показалось, что сияющий майский день сразу потемнел, что на его плечи легла мертвая, чужая тяжесть, похожая на песчаную гору, и что музыка заиграла скучно и глухо. И сам он почувствовал себя маленьким, слабым, некрасивым, с вялыми движениями, с грузными, неловкими, заплетающимися ногами.
К нему уже летел карьером полковой адъютант. Лицо Федоровского было красно и перекошено злостью, нижняя челюсть прыгала. Он задыхался от гнева и от быстрой скачки. Еще издали он начал яростно кричать, захлебываясь и давясь словами:
— Подпоручик… Ромашов… Командир полка объявляет вам… строжайший выговор… На семь дней… на гауптвахту… в штаб дивизии… Безобразие, скандал… Весь полк о…… и!.. Мальчишка!
Ромашов не отвечал ему, даже не повернул к нему головы. Что ж, конечно, он имеет право браниться! Вот и солдаты слышали, как адъютант кричал на него. «Ну, что ж, и пускай слышали, так мне и надо, и пускай, — с острой ненавистью к самому себе подумал Ромашов. — Все теперь пропало для меня. Я застрелюсь. Я опозорен навеки. Все, все пропало для меня. Я смешной, я маленький, у меня бледное, некрасивое лицо, какое-то нелепое лицо, противнее всех лиц на свете. Все пропало! Солдаты идут сзади меня, смотрят мне в спину, и смеются, и подталкивают друг друга локтями. А может быть, жалеют меня? Нет, я непременно, непременно застрелюсь!»
Полуроты, отходя довольно далеко от корпусного командира, одна за другой заворачивали левым плечом и возвращались на прежнее место, откуда они начали движение. Тут их перестраивали в развернутый ротный строй. Пока подходили задние части, людям позволили стоять вольно, а офицеры сошли с своих мест, чтобы размяться и покурить из рукава. Один Ромашов оставался в середине фронта, на правом фланге своей полуроты. Концом обнаженной шашки он сосредоточенно ковырял землю у своих ног и хотя не подымал опущенной головы, но чувствовал, что со всех сторон на него устремлены любопытные, насмешливые и презрительные взгляды.
Капитан Слива прошел мимо Ромашова и, не останавливаясь, не глядя на него, точно разговаривая сам с собою, проворчал хрипло, со сдержанной злобой, сквозь сжатые зубы:
— С-сегодня же из-звольте подать рапорт о п-переводе в другую роту.
Потом подошел Веткин. В его светлых, добрых глазах и в углах опустившихся губ Ромашов прочел то брезгливое и жалостное выражение, с каким люди смотрят на раздавленную поездом собаку. И в то же время сам Ромашов с отвращением почувствовал у себя на лице какую-то бессмысленную, тусклую улыбку.
— Пойдем покурим, Юрий Алексеевич, — сказал Веткин.
И, чмокнув языком и качнув головой, он прибавил с досадой:
— Эх, голубчик!..
У Ромашова затрясся подбородок, а в гортани стало горько и тесно. Едва удерживаясь от рыданий, он ответил обрывающимся, задушенным голосом обиженного ребенка:
— Нет уж… что уж тут… я не хочу…
Веткин отошел в сторону. «Вот возьму сейчас подойду и ударю Сливу по щеке, — мелькнула у Ромашова ни с того ни с сего отчаянная мысль. — Или подойду к корпусному и скажу: «Стыдно тебе, старому человеку, играть в солдатики и мучить людей. Отпусти их отдохнуть. Из-за тебя две недели били солдат».
Но вдруг ему вспомнились его недавние горделивые мечты о стройном красавце подпоручике, о дамском восторге, об удовольствии в глазах боевого генерала, — и ему стало так стыдно, что он мгновенно покраснел не только лицом, но даже грудью и спиной.
«Ты смешной, презренный, гадкий человек! — крикнул он самому себе мысленно. — Знайте же все, что я сегодня застрелюсь!»
Смотр кончался. Роты еще несколько раз продефилировали перед корпусным командиром: сначала поротно шагом, потом бегом, затем сомкнутой колонной с ружьями наперевес. Генерал как будто смягчился немного и несколько раз похвалил солдат. Было уже около четырех часов. Наконец полк остановили и приказали людям стоять вольно. Штаб-горнист затрубил «вызов начальников».
— Господа офицеры, к корпусному командиру! — пронеслось по рядам.
Офицеры вышли из строя и сплошным кольцом окружили корпусного командира. Он сидел на лошади, сгорбившись, опустившись, по-видимому сильно утомленный, но его умные, прищуренные, опухшие глаза живо и насмешливо глядели сквозь золотые очки.
— Буду краток, — заговорил он отрывисто и веско. — Полк никуда не годен. Солдат не браню, обвиняю начальников. Кучер плох — лошади не везут. Не вижу в вас сердца, разумного понимания заботы о людях. Помните твердо: «Блажен, иже душу свою положит за други своя». А у вас одна мысль — лишь бы угодить на смотру начальству. Людей завертели, как извозчичьих лошадей. Офицеры имеют запущенный и дикий вид, какие-то дьячки в мундирах. Впрочем, об этом прочтете в моем приказе. Один прапорщик, кажется, шестой или седьмой роты, потерял равнение и сделал из роты кашу. Стыдно! Не требую шагистики в три темпа, но глазомер и спокойствие прежде всего.
«Обо мне!» — с ужасом подумал Ромашов, и ему показалось, что все стоящие здесь одновременно обернулись на него. Но никто не пошевелился. Все стояли молчаливые, понурые и неподвижные, не сводя глаз с лица генерала.
— Командиру пятой роты мое горячее спасибо! — продолжал корпусный командир. — Где вы, капитан? А, вот! — генерал несколько театрально, двумя руками поднял над головой фуражку, обнажил лысый мощный череп, сходящийся шишкой над лбом, и низко поклонился Стельковскому. — Еще раз благодарю вас и с удовольствием жму вашу руку. Если приведет бог драться моему корпусу под моим начальством, — глаза генерала заморгали и засветились слезами, то помните, капитан, первое опасное дело поручу вам. А теперь, господа, мое почтение-с. Вы свободны, рад буду видеть вас в другой раз, но в другом порядке. Позвольте-ка дорогу коню.
— Ваше превосходительство, — выступил вперед Шульгович, — осмелюсь предложить от имени общества господ офицеров отобедать в нашем собрании. Мы будем…
— Нет, уж зачем! — сухо оборвал его генерал. — Премного благодарен, я приглашен сегодня к графу Ледоховскому.
Сквозь широкую дорогу, очищенную офицерами, он галопом поскакал к полку. Люди сами, без приказания, встрепенулись, вытянулись и затихли.
— Спасибо, N-цы! — твердо и приветливо крикнул генерал. — Даю вам два дня отдыха. А теперь… — он весело возвысил голос, — по палаткам бегом марш! Ура!
Казалось, он этим коротким криком сразу толкнул весь полк. С оглушительным радостным ревом кинулись полторы тысячи людей в разные стороны, и земля затряслась и загудела под их ногами.
Ромашов отделился от офицеров, толпою возвращавшихся в город, и пошел дальней дорогой, через лагерь. Он чувствовал себя в эти минуты каким-то жалким отщепенцем, выброшенным из полковой семьи, каким-то неприятным, чуждым для всех человеком, и даже не взрослым человеком, а противным, порочным и уродливым мальчишкой.
Когда он проходил сзади палаток своей роты, по офицерской линии, то чей-то сдавленный, но гневный крик привлек его внимание. Он остановился на минутку и в просвете между палатками увидел своего фельдфебеля Рынду, маленького, краснолицего, апоплексического крепыша, который, неистово и скверно ругаясь, бил кулаками по лицу Хлебникова. У Хлебникова было темное, глупое, растерянное лицо, а в бессмысленных глазах светился животный ужас. Голова его жалко моталась из одной стороны в другую, и слышно было, как при каждом ударе громко клацали друг о друга его челюсти.