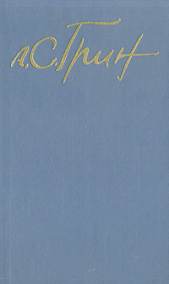Том 4. Очерки и рассказы 1895-1906

Том 4. Очерки и рассказы 1895-1906 читать книгу онлайн
В третий том Собрания сочинений Н.Г. Гарина-Михайловского вошли очерки и рассказы 1895–1906 гг.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пили до потери сознания, ухаживали за певицами до потери всякого стыда.
Было цинично, грубо и отвратительно.
Какой-нибудь армейский офицер, уже пьяный, гремит саблей и кричит: «человек, garson» [6]— с таким видом и таким голосом, что глупо и стыдно за него становится, а он только самодовольно оглядывается: вот я, дескать, какой молодец. А если слуга не спешит на его зов, то он громче стучит, так что заглушает пение, а иногда дело доходит и до побоев провинившейся прислуги.
Меня в этот кабак затащило мое начальство, — еще молодой, лет тридцати, военный инженер И. Н. Бортов.
Побывав, я решил не ходить туда больше.
Да и обстоятельства складывались благоприятно для этого.
В ведение Бортова входили как бургасские работы, так и работы в бухте, которая называлась Чингелес-Искелессе.
Эта бухта была на другой стороне обширного Бургасского залива, по прямому направлению водой верстах в семи от города. Вот в эту бухту я и был назначен на пристанские и шоссейные работы.
Для меня, начинающего, получить такое большое дело было очень почетно, но в то же время я боялся, что не справлюсь с ним.
На другой день, после вечера в кафешантане, я явился к Бортову за приказаниями и, между прочим, чистосердечно заявил ему, что боюсь, что не справлюсь. Бортов и сегодня сохранял тот же вид человека, которому море по колени.
Такой он и есть несомненно, иначе не имел бы и золотой сабли, и Владимира с мечом и бантом, и такой массы орденов, которые прямо не помещались на груди у него.
Не карьерист при этом, конечно, потому что с начальством на ножах — вернее, ни во что его не ставит и, не стесняясь, ругает. Про одного здешнего важного генерала говорит:
— Дурак и вор.
Это даже халатность, которая меня, начинавшего свою службу офицера, немного озадачивала в смысле дисциплины.
На мои опасения, что не справлюсь, Бортов бросил мне:
— Но… Не боги горшки лепят. Иногда посоветуемся вместе. Пойдет.
— Но отчего же, — спросил я, — и вам, тоже еще молодому, и мне, совершенно неопытному, поручают такие большие дела, а все эти полковники сидят без дела?
— Да что ж тут скрывать, — флегматично, подумав, отвечал Бортов, — дело в том, что во главе инженерного ведомства, хотя и стоит 3., но он болен и где-то за границей лечится, а всем управляет Э. Он просто не доверяет всем этим полковникам. Дает им шоссе в пятьсот верст и на все шоссе выдаст двести золотых. А вот на такое дело, как наше, в миллион франков, ставит вот нас с вами. Считает, что молоды, не успели испортиться.
— И это, конечно, так, — поспешно ответил я.
— Ну, какой молодой, — другой молодой, да ранний. Отчетности у нас никакой: не всегда и расписку можно получить. Да и что такое расписка? Братушка все подпишет и читать не станет. Вот, вчера я пятьдесят тысяч франков заплатил за лес, — вот расписка.
Бортов вынул из стола кусок грязной бумаги, где под текстом стояли болгарские каракули.
— Он не знает, что я написал, я не знаю, что он: может быть, он написал: собаки вы все.
Бортов рассмеялся каким-то преждевременно старческим хихиканьем. Что-то очень неприятное было и в этом смехе и в самом Бортове, — что-то изжитое, холодное, изверившееся, как у самого Мефистофеля.
Из молодого он сразу превратился в старика: множество мелких морщин, глаза потухшие, замершие на чем-то, что они только и видели там, где-то вдали. Он напомнил мне вдруг дядю одного моего товарища, старого развратника.
Бортов собрался и опять деловито заговорил:
— Ну, вот вам десять тысяч на первый раз и поезжайте.
— А где я буду хранить такую сумму?
— В палатке, в сундуке.
— А украдут?
— Составите расписку, — болгарин подпишет.
Бортов опять рассмеялся, как и в первый раз, заглядывая мне в глаза.
— Расписку не составлю, а пулю пущу себе в лоб, — огорченно ответил я.
— Что ж, и это иногда хорошо, — усмехнулся Бортов. И уже просто, ласково прибавил — А по субботам приезжайте к нам сюда, — в воскресенье ведь нет работ, — и прямо ко мне… вечерком в кафешантан… Я, грешный человек, там каждый день.
— Да ведь там гадость, — тихо сказал я.
— Меньшая, — ответил равнодушно Бортов. — Если вам понравилась моя Берта, пожалуйста не стесняйтесь… Я ведь с ней только потому, что она выдержала с нами и Хивинский поход.
Берта, громадного роста, атлет, шумная немка, которая без церемонии вчера несколько раз, проходя мимо Бортова, садилась ему с размаху на колени, обнимала его и комично кричала:
— Ох, как люблю…
А он смеялся своим обычным смехом и говорил своим обычным тоном:
— Ну, ты… раздавишь…
А иногда Берта с деловито-шутливым видом наклонялась и спрашивала по-немецки Бортова:
— Вот у того есть деньги?
И Бортов отвечал ей всегда по-русски, смотря по тому, на кого показывала Берта: если интендант или инженер, — «много», или «мало, плюнь, брось».
И громадная Берта делала вид, что хочет действительно плюнуть.
Нет, Берта была не в моем вкусе, и я только весело рассмеялся в ответ на слова Бортова.
Чтоб быть совершенно искренним, я должен сказать, что в то же время рядом с образом Берты предо мной встал образ другой певицы, француженки, по имени Клотильда.
Это была среднего роста, молодая, начинавшая чуть-чуть полнеть женщина, с ослепительно белым телом: обнаженные плечи, руки так и сверкали свежестью, красотой, белизной. Такое же красивое, молодое, правильное, круглое лицо ее с большими, ласковыми и мягкими, очень красивыми глазами. То, что художники называют последним бликом, от чего картина оживает и говорит о том, что хотел сказать художник, у Клотильды было в ее глазах, живых, говорящих, просящих. Я таких глаз никогда не видал, и, когда она подошла к нашему столу совершенно неожиданно и наши взгляды встретились, я, признаюсь откровенно, в первое мгновение был поражен и смотрел, вероятно, очень опешенно. Что еще очень оригинально — это то, что при черных глазах у нее были волосы цвета поспевшей ржи: золотистые, густые, великолепные волосы, небрежно закрученные в какой-то фантастической прическе, со вкусом, присущим только ее нации. Прядь этих волос упала на ее шею, и белизна шеи еще сильнее подчеркивалась.
Теперь, когда я, сидя с Бортовым, вспомнил вдруг эту подробность, что-то точно коснулось моего сердца — теплое, мягкое, от чего слегка сперлось вдруг мое дыхание.
— Клотильда лучше? — тихо, равнодушно бросил Бортов.
— Да, конечно, Клотильда лучше, — ответил я, краснея и смущенно стараясь что-то вспомнить.
Теперь я вспомнил. Вопрос Бортова остановил меня невольно на первом впечатлении, но были и последующие.
Правда, я не заметил, чтобы кто-нибудь обнял Клотильду или она к кому-нибудь села на колени. В этом отношении она умела очень искусно лавировать, сохраняя мягкость и такт. Но в глаза, как мне, она так же любезно смотрела всем, а за стол одного красного как рак, уже пожилого полковника она присела и довольно долго разговаривала с ним.
В другой раз какой-то молодой офицер в порыве восторга крикнул ей, когда она проходила мимо него:
— Клотильдочка, милая моя!..
На что Клотильда ласково переспросила по-русски:
— Что значит «милая»?
— Значит, что я тебя люблю и хочу поцеловать тебя.
— О-о-о! — ласково сказала ему Клотильда, как говорят маленьким детям, когда они предлагают выкинуть какую-нибудь большую глупость, и такая же приветливая, мягкая, прошла дальше.
Ушла она из кафешантана под руку с полковником, озабоченно и грациозно подбирая свои юбки.
Случайно ее глаза встретились с Бортовым, и она, кивнув ему, улыбнулась и сверкнула своими яркими, как лучи солнца, глазами. На меня она даже и не взглянула.
Я солгал бы, если б сказал, что я и не хотел, чтобы она смотрела на меня. Напротив, страшно хотел, но, когда она прошла мимо меня, опять занятая своими юбками, с ароматом каких-то пьянящих духов, я вздохнул свободно, и Клотильда-кокотка, развратная женщина, с маской в то же время чистоты и невинности, с видом человека, который как раз именно и делает то дело, которое велели ему его долг и совесть, — Клотильда, притворная актриса, получила от меня всю свою оценку, и я не хотел больше думать о ней.