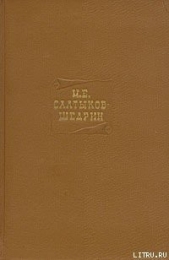Том 1. Проза, рецензии, стихотворения 1840-1849
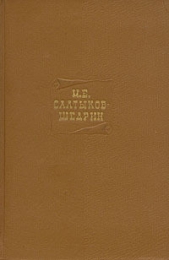
Том 1. Проза, рецензии, стихотворения 1840-1849 читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В первый том входят произведения Салтыкова 1840–1849 годов, открывающие творческую и политическую биографию писателя. От подражательной романтики юношеских стихотворений к реализму и демократической настроенности «Запутанного дела» и «Брусина» — таков путь литературно-общественного развития молодого Салтыкова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да коли это невозможно, Татьяна Игнатьевна, коли все, что вы хотите истребить во мне, так тесно слилось с моею природою?..
— А кто вам сказал, что мертвенность есть принадлежность вашей натуры? Ведь вы же сами выдумали это, Андрей Павлыч! А если вы так легко могли себя уверить в этом, то точно так же можете уверить себя и в противном: ведь это так мало стоит для вас, которые действуете только по указаниям рассудка; ведь вам стоит только слово сказать этому непогрешающему судье: он, право, такой добрый, такой благонамеренный в искусных руках ваших, что мигом разобьет в пух и прах все это шаткое здание убеждений и доказательств, которое еще за минуту с таким жаром отстаивал.
— Ах, Татьяна Игнатьевна! зачем же смеяться над тем, что составляет и счастие и несчастие, и славу и позор человека?
— Скажите просто: несчастие и позор. Зачем тут примешивать славу и счастие?
— Затем, что оно так на деле, Татьяна Игнатьевна, затем, что я не могу жить иначе, нежели живу, рассуждать иначе, нежели рассуждаю… Коли хотите, я первый соглашаюсь с вами, что рассудок и один рассудок — это односторонне, это неполно, да в таком-то полубытии, в таком-то противоречии рассудка в жизни и заключается источник всего моего счастия и всего моего несчастия… Разве я виноват хоть сколько-нибудь в этой односторонности? разве я виноват, что рассудок мой противоречит чувству, а не умеряется им?.. ведь меня не спрашивали, какие условия жизни желал бы иметь я, когда родился я на свет; мне заранее дали уже готовые условия, готовую средину, для меня же собственно предстоит только одна забота — забота, как приспособить жизнь свою к этой односторонности, как вынесть из нее возможно меньшую сумму зла.
— И вы… устроились, Андреи Павлыч?
— Да; по крайней мере, я старался…
— Верно, вы много старались, что так блистательно успели в этом?.. и вы довольны собою?..
— Кто же вам говорит, Татьяна Игнатьевна, что я доволен своим положением? зачем приписывать мне мысли, которых я никогда не имел? И не доволен, да будь доволен… что ж с этим делать!
— Да, в самом деле, делать нечего… Ну, и односторонность-то эта — кто же в ней-то виноват, Андрей Павлыч?
— Ах, боже мой! да как же мне объяснить вам? это так уж есть, это в воздухе…
— Следовательно, уж и помочь этому нельзя, стало быть, нечего и говорить об этом? Так, что ли, Андрей Павлыч?
Он задумался и долго не отвечал мне.
— Да что ж делать, что предпринять мне! Научите меня, Татьяна Игнатьевна, если можете! Чем же виноват я, что беспрестанно ускользает от меня эта середина, которой я добиваюсь? что ж делать, если нет другого выхода: или быть вечным юношей или преждевременным стариком, или сжечь и разрушить, или оледенить и заморозить все…
И он сказал это с видом такого глубокого отчаяния, что слышно было в звуках его голоса, как тяготило его самого это безвыходное противоречие; но я как-то зла была в эту минуту, я чувствовала потребность вылить наружу всю желчь, которая мало-помалу накоплялась в сердце моем.
— Итак, решительно нет для вас никакого спасения, Андрей Павлыч? — сказала я.
— Нет, решительно нет; по крайней мере, я не вижу, — отвечал он более спокойным тоном, — это необходимо, и я должен покориться закону необходимости.
— Необходимость? И, полноте, Андрей Павлыч! может быть, на вашем языке это так зовется, а попросту-то знаете ли, как называется подобный закон?
— Позвольте узнать, — сказал он, насмешливо улыбнувшись.
— Да… просто, трусостью…
— Что ж, коли хотите, я с вами не совсем несогласен…
— А! вот как!..
— Да; потому что дело не в слове, а в понятии, которое оно выражает.
— Стало быть, вы просто трус, Андреи Павлыч?
Он смутился; но это смущение было так мгновенно и так быстро уступило место самому твердому спокойствию, что нужно было вглядываться в его лицо с таким напряженным вниманием, с каким я вглядывалась, чтоб заметить эту краску, которая на одну минуту показалась и скрылась на щеках его…
— Коли хотите, — сказал он, — есть разница между обыкновенным трусом и человеком нравственно обессиленным вследствие горестного сознания невозможности… и даже неразумности борьбы с необходимостью… Впрочем, если вам непременно угодно, чтоб я был трусом, я и на это согласен.
— Итак, все кончено между нами, Андрей Павлыч, и мне нужно будет выйти замуж за Гурова?
— Ах, боже мой! право, я не знаю! Как же я могу что-нибудь сказать вам за или против…
— Да нет, скажите… мне нужно… Чего же ждать? чего жалеть?.. уж лучше разом… кончимте разом, Андрей Павлыч! Это последняя моя просьба; вы будете спокойны, я не стану вам больше надоедать…
И я чувствовала потребность выйти из этого тягостного положения, разрешить хоть чем-нибудь эту неизвестность, а вместе с тем желала отдалить приближение роковой минуты и как смерти ждала и страшилась его ответа.
— Ах, чего вы от меня требуете, Татьяна Игнатьевна! — сказал он спустя несколько секунд, — в свою очередь, спрошу я у вас, неужели вы из всех моих разговоров ничего не поняли? неужели ваше чувство так закрыло глаза вашему рассудку, что вы не видите, что меня мучит, какой червь гложет мое сердце?..
— Так вы меня любите? — спросила я. Он молчал.
— Что ж, не любите вы меня, Андрей Павлыч?
Но он опять не отвечал на мой вопрос; наконец мне не стало более силы, глухое рыдание невольно вырвалось из груди моей, и, едва удерживаясь на ногах, вышла я вон из беседки. Я видела, что он как будто сделал движение, чтоб удержать меня, видела, что он также встал со скамейки; но когда, прошедши несколько шагов, я обернулась, он уж по-прежнему сидел на месте и читал свою книгу.
Итак, вот конец всем моим предположениям! Итак, мне нужно выйти замуж за Гурова, нужно покориться закону необходимости!.. Право, так! ведь это он сказал, это слова его! Что ж! покоримся ей; пусть будет она помыкать нами, если мы сами ничего не можем, если мы простые марионетки без души, без воли, без чувства! И как легко будет жить потом: надо только убить, заморить всякую искру чувства, уничтожить сознание бытия, а потом даже и рассуждать ненадобно, только вовремя поднимай руки и ноги, вовремя кивай головой и проч., а там все само собою устроится! Что за чудная, что за спокойная жизнь!
И грустно смотрю я на эти строки, которые каких-нибудь десять дней назад писала рука моя, диктовало полное упоения и радости сердце… и всё мне хочется вычеркнуть их, вырвать и бросить куда-нибудь дальше, чтоб не напоминали они мне моего улетевшего счастия! И к чему вы теперь, дорогие, полные благоуханной любви, строки? Оно уж прошло и не возвратится никогда, это волшебное время любви, и по-прежнему стонет и ноет мое бедное сердце, и по-прежнему раскрылись едва зажившие раны его!
От Нагибина к г. NN
Знаю я, что советовать в этом деле постороннему человеку нельзя, что лучшие тут советчики собственный рассудок и обстоятельства; коли хотите, скажу вам даже, что я и не послушал бы ваших советов и по-прежнему оставался бы в нерешимости, по-прежнему бы висел на воздухе. Что ж прикажете делать? бывают обстоятельства, которые приводят человека в положение такого странного оцепенения, что он, как будто чувствуя, что никакая внутренняя сила не в состоянии разбудить его, по невольному инстинкту ищет, чтоб что-нибудь внешнее вызвало его из этого несносного страдания, жалуется на свое положение, просит советов, хоть знает, что никакие советы не могут иметь тут силы.
В таком именно положении находился я, когда просил вас помочь мне; в таком положении, если еще не в худшем, нахожусь я и в настоящую минуту. Я убит, я не в состоянии не только действовать, но и рассуждать; я решительно ничего не понимаю: что я, наконец, такое, к чему я, зачем я, как будто бы назло и себе и другим существую?
Вообразите себе человека, умирающего от голода. Бледный, едва укрытый лохмотьями своего рубища, лежит он на голом полу и издыхает, как никому не нужная собака, в предсмертных конвульсиях; в двух шагах от него рассыпаны бессметные сокровища, в двух шагах от него проходят люди с веселием и песнию на устах; но он ничего не видит, не видит, что у него есть все под рукою, чтоб утолить голод, не оскорбляется слух его веселием ликующей толпы; равнодушно смотрит он, равнодушно прислушивается ко всему, как будто не его и дело, как будто не о нем и речь идет. Он создал себе свой особый кумир; ему с детства вбивали в голову, что это так есть, что иначе и быть не может: одному жизнь, другому смерть, и он не противится, он скорей согласится умереть с голода среди довольства и роскоши, но не осмелится оскорбить свой кумир. Идет мимо прохожий и говорит ему: «Безумный человек! зачем же непременно хочешь ты умереть, когда все зовет тебя к жизни? посмотри, оглянись вокруг себя: перед тобою, как перед законным властелином, земля разверзает недра свои; тебе лучшие дары, лучшие силы ее; на тебя рассыпает солнце лучшие лучи свои; перед тобою склоняется вся природа; ты все имеешь, все, что может составить счастье и наполнить жизнь человека! встань и живи!» И светлая мысль озаряет на минуту мысль бедного страдальца, и хочет он встать, и хочет жить, и усиливается подняться на ноги, и медленно простирает изможденную руку… Но, увы! тщетны все усилия его: он чувствует, как гнездится уж смерть в окостеневшем сердце его, как крадется и ползет она, как змей, по всем жилам его существа; вот уже коснеет язык его, вот помутился и померк умоляющий взор, вот и весь он вздрогнул и вытянулся — и все стихло и смолкло вокруг него, и слышится только неведомый, но страшный голос, говорящий над ним: «Смерть ему, слабому, неразумному слепцу, ибо многое было дано ему, и от всего добровольно отказался он, сам потушил в себе свет разума, данный ему природою, и осудил себя на вечную ночь, на вечную тьму!»