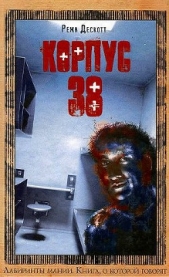Раковый корпус
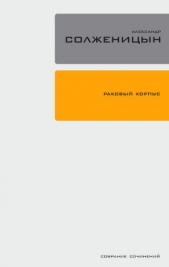
Раковый корпус читать книгу онлайн
В третьем томе 30-томного Собрания сочинений печатается повесть «Раковый корпус». Сосланный «навечно» в казахский аул после отбытия 8-летнего заключения, больной раком Солженицын получает разрешение пройти курс лечения в онкологическом диспансере Ташкента. Там, летом 1954 года, и задумана повесть. Замысел лежал без движения почти 10 лет. Начав писать в 1963 году, автор вплотную работал над повестью с осени 1965 до осени 1967 года. Попытки «Нового мира» Твардовского напечатать «Раковый корпус» были твердо пресечены властями, но текст распространился в Самиздате и в 1968 году был опубликован по-русски за границей. Переведен практически на все европейские языки и на ряд азиатских. На родине впервые напечатан в 1990.
В основе повести – личный опыт и наблюдения автора. Больные «ракового корпуса» – люди со всех концов огромной страны, изо всех социальных слоев. Читатель становится свидетелем борения с болезнью, попыток осмысления жизни и смерти; с волнением следит за робкой сменой общественной обстановки после смерти Сталина, когда страна будто начала обретать сознание после страшной болезни. В героях повести, населяющих одну больничную палату, воплощены боль и надежды России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все страсти жизни возвращались в выздоравливающее тело! Все!
– Зо-я! – нараспев сказал Олег. – Зо-я! А как вы понимаете своё имя?
– Зоя – это жизнь! – ответила она чётко, как лозунг. Она любила это объяснять. Она стояла, заложив руки к подоконнику, за спину, – и вся чуть набок, перенеся тяжесть на одну ногу.
Он улыбался счастливо. Он вомлел в неё глазами.
– А к зоо? К зоо-предкам вы не чувствуете иногда своей близости?
Она рассмеялась в тон ему:
– Все мы немножечко им близки. Добываем пищу, кормим детёнышей. Разве это так плохо?
И тут бы, наверно, ей остановиться! Она же, возбуждённая таким неотрывным, таким поглощающим восхищением, какого не встречала от городских молодых людей, каждую субботу без труда обнимающих девушек хоть на танцах, – она ещё выбросила обе руки и, прищёлкивая обеими, всем корпусом завиляла, как это полагалось при исполнении модной песенки из индийского фильма:
– А-ва-рай-я-а́-а! А-ва-рай-я-а́-а!
Но Олег вдруг помрачнел и попросил:
– Не надо! Этой песни – не надо, Зоя.
Мгновенно она приняла благопристойный вид, будто не пела и не извивалась только что.
– Это – из «Бродяги», – сказала она. – Вы не видели?
– Видел.
– Замечательный фильм! Я два раза была! – (Она была четыре раза, но постеснялась почему-то выговорить.) – А вам не нравится? Ведь у Бродяги – ваша судьба.
– Только не моя, – морщился Олег. Он не возвратился к прежнему светлому выражению, и уже жёлтое солнце не теплило его, и видно было, как же он всё-таки болен.
– Но он тоже вернулся из тюрьмы. И вся жизнь разрушена.
– Это всё – фокусы. Он – типичный блатарь. Урка.
Зоя протянула руку за халатом.
Олег встал, расправил халат и подал ей надеть.
– А вы их не любите? – Она поблагодарила кивком и теперь застёгивалась.
– Я их ненавижу. – Он смотрел мимо неё, жестоко, и челюсть у него чуть-чуть сдвинулась в каком-то неприятном движении. – Это хищные твари, паразиты, живущие только за счёт других. У нас тридцать лет звонили, что они перековываются, что они «социально-близкие», а у них принцип: тебя не… тут у них ругательные слова, и очень хлёстко звучит, примерно: тебя не бьют – сиди смирно, жди очереди; раздевают соседей, не тебя – сиди смирно, жди очереди. Они охотно топчут того, кто уже лежит, и тут же нагло рядятся в романтические плащи, а мы помогаем им создавать легенды, а песни их даже вот на экране.
– Какие ж легенды? – смотрела, будто провинилась в чём-то.
– Это – сто лет рассказывать. Ну, одну легенду, если хотите. – Они рядом теперь стояли у окна. Олег без всякой связи со своими словами повелительно взял её за локти и говорил как младшенькой. – Выдавая себя за благородных разбойников, блатные всегда гордятся, что не грабят нищих, не трогают у арестантов святого костыля – то есть не отбирают последней тюремной пайки, а воруют лишь всё остальное. Но в сорок седьмом году на красноярской пересылке в нашей камере не было ни одного бобра – то есть не у кого было ничего отнять. Блатных было чуть не полкамеры. Они проголодались – и весь сахар, и весь хлеб стали забирать себе. А состав камеры был довольно оригинальный: полкамеры урок, полкамеры японцев, а русских нас двое политических, я и ещё один полярный лётчик известный, его именем так и продолжал называться остров в Ледовитом океане, а сам он сидел. Так урки безсовестно брали у японцев и у нас всё дочиста дня три. И вот японцы, ведь их не поймёшь, договорились, ночью безшумно поднялись, сорвали доски с нар и с криком «банзай!» бросились гвоздить урок! Как они их замечательно били! Это надо было посмотреть!
– И вас?
– Нас-то за что? Мы ж у них хлеба не отбирали. Мы в ту ночь были нейтральны, но переживали во славу японского оружия. И наутро восстановился порядок: и хлеб, и сахар мы стали получать сполна. Но вот что сделала администрация тюрьмы: она половину японцев от нас забрала, а в нашу камеру к битым уркам подсадила ещё не битых. И теперь урки бросились бить японцев – с перевесом в числе, да ведь ещё у них и ножи, у них всё есть. Били они их безчеловечно, насмерть – и вот тут мы с лётчиком не выдержали и ввязались за японцев.
– Против русских?
Олег отпустил её локти и стал выпрямленный. Чуть повёл челюстью с боку на бок:
– Блатарей – я не считаю за русских.
Он поднял руку и провёл пальцем по шраму, будто протирая его, – от подбородка по низу щеки и на шею:
– Вот там меня и резанули.
13
Нисколько не опала и не размягчилась опухоль Павла Николаевича и с субботы на воскресенье. Он понял это, ещё не поднявшись из постели. Разбудил его рано старый узбек, под утро и всё утро противно кашлявший над ухом.
За окном пробелился пасмурный неподвижный день, как вчера, как позавчера, ещё больше нагнетая тоску. Казах-чабан с утра пораньше сел с подкрещенными ногами на кровати и безсмысленно сидел, как пень. Сегодня не ожидались врачи, никого не должны были звать на рентген или на перевязки, и он, пожалуй, до вечера мог так высидеть. Зловещий Ефрем опять упёрся в заупокойного своего Толстого; иногда он поднимался топтать проход, тряся кровати, но уже хорошо, что к Павлу Николаевичу больше не цеплялся, и ни к кому вообще.
Оглоед как ушёл, так целый день его в палате и не было. Геолог, приятный, воспитанный молодой человек, читал свою геологию, никому не мешал. И остальные в палате держали себя тихо.
Подбадривало Павла Николаевича, что приедет жена. Конечно, ничем реальным она не могла ему помочь, но сколько значило излиться ей: как ему плохо; как ничуть не помог укол; какие противные люди в палате. Посочувствует – и то легче. И попросить её принести какую-нибудь книжку – бодрую, современную. И авторучку – чтобы не попадать так смешно, как вчера, у пацана карандаш одолжал записывать рецепт. Да, и главное же – наказать о грибе, о берёзовом грибе.
В конце концов – не всё потеряно: лекарства не помогут – есть вот разные средства. Самое главное – быть оптимистом.
Понемногу-понемногу, а приживался Павел Николаевич и здесь. После завтрака он дочитывал во вчерашней газете бюджетный доклад Зверева. А тут без задержки принесли и сегодняшнюю. Принял её Дёмка, но Павел Николаевич велел передать себе и сразу же с удовлетворением прочёл о падении правительства Мендес-Франса (не строй козней! не навязывай парижских соглашений!), в запасе заметил себе большую статью Эренбурга и погрузился в статью о претворении в жизнь решения январского Пленума о крутом увеличении производства продуктов животноводства.
Так Павел Николаевич коротал день, пока объявила санитарка, что к Русанову пришла жена. Вообще, к лежачим больным родственников допускали в палату, но у Павла Николаевича не было сейчас сил идти доказывать, что он – лежачий, да и самому вольготнее было уйти в вестибюль от этих унылых, упавших духом людей. И, обмотав тёплым шарфиком шею, Русанов пошёл вниз.
Не всякому за год до серебряной свадьбы остаётся так мила жена, как была Капа Павлу Николаевичу. Ему действительно за всю жизнь не было человека ближе, ни с кем ему не было так хорошо порадоваться успехам и обдумать беду. Капа была верный друг, очень энергичная женщина и умная («у неё сельсовет работает!» – всегда хвастался Павел Николаевич друзьям). Павел Николаевич никогда не испытывал потребности ей изменять, и она ему не изменяла. Это неправда, что, переходя выше в общественном положении, муж начинает стыдиться подруги своей молодости. Далеко они поднялись с того уровня, на котором женились (она была работница на той самой макаронной фабрике, где в тестомесильном цехе сперва работал и он, но ещё до женитьбы поднялся в фабзавком, и работал по технике безопасности, и по комсомольской линии был брошен на укрепление аппарата совторгслужащих, и ещё год был директором фабрично-заводской девятилетки), – но не расщепились за это время интересы супругов, и от заносчивости не раздуло их. И на праздниках, немного выпив, если публика за столом была простая, Русановы любили вспомнить своё фабричное прошлое, любили громко попеть «Волочаевские дни» и «Мы красная кавалерия – и – про – нас».