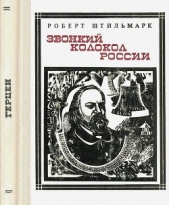Былое и думы.(Предисловие В.Путинцева)

Былое и думы.(Предисловие В.Путинцева) читать книгу онлайн
Писатель, мыслитель, революционер, ученый, публицист, основатель русского бесцензурного книгопечатания, родоначальник политической эмиграции в России Александр Иванович Герцен (Искандер) почти шестнадцать лет работал над своим главным произведением — автобиографическим романом «Былое и думы». Сам автор называл эту книгу исповедью, «по поводу которой собрались… там-сям остановленные мысли из дум». Но в действительности, Герцен, проявив художественное дарование, глубину мысли, тонкий психологический анализ, создал настоящую энциклопедию, отражающую быт, нравы, общественную, литературную и политическую жизнь России середины ХIХ века.
Роман «Былое и думы» — зеркало жизни человека и общества, — признан шедевром мировой мемуарной литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прошло с год, дело взятых товарищей окончилось.; Их обвинили (как впоследствии нас, потом петрашевцев) в намерениисоставить тайное общество, в преступных разговорах; за это их отправляли в солдаты, в Оренбург. Одного из подсудимых Николай отличил — Сунгурова.Он уже кончил курс и был на службе, женат и имел детей; его приговорили к лишению прав состояния и ссылке в Сибирь.
«Что могли сделать несколько молодых студентов? Напрасно они погубили себя!» Все это основательно, и люди, рассуждающие таким образом, должны быть довольны благоразумиемрусского юношества, следовавшего за нами. После нашей истории, шедшей вслед за сунгуровскои, и до истории Петрашевского прошло спокойно пятнадцать лет,именно те пятнадцать, от которых едва начинает оправляться Россия и от которых сломились два поколения: старое, потерявшееся в буйстве, и молодое, отравленное с детства, которого квёлых представителей мы теперь видим.
После декабристов все попытки основывать общества не удавались действительно; бедность сил, неясность целей указывали на необходимость другой работы — предварительно, внутренней. Все это так.
Но что же это была бы за молодежь, которая могла бы в ожидании теоретических решений спокойно смотреть на то, что делалось вокруг, на сотни поляков, гремевших цепями по владимирской дороге, на крепостное состояние, на солдат, засекаемых на Ходынском поле каким-нибудь генералом Дашкевичем, на студентов-товарищей, пропадавших без вести. В нравственную очистку поколения, в залог будущего они должны были негодовать до безумных опытов, до презрения опасности, Свирепые наказания мальчиков 16–17 лет (154) служили грозным уроком и своего рода закалом; занесенная над каждым звериная лапа, шедшая от груди, лишенной сердца, вперед отводила розовые надежды на снисхождение к молодости. Шутить либерализмом было опасно, играть в заговоры не могло прийти в голову. За одну дурно скрытую слезу о Польше, за одно смело сказанное слово — годы ссылки, белого ремня, а иногда и каземат; потому-то и важно, что слова эти говорились и что слезы эти лились. Гибли молодые люди иной раз, но они гибли, не только не мешая работе мысли, разъяснявшей себе сфинксовую задачу русской жизни, но оправдывая ее упования:.
Черед был теперь за нами. Имена наши уже были занесены в списки тайной полиции. Первая игра голубой кошки с мышью началась так.
Когда приговоренных молодых людей отправляли по этапам, пешком, без достаточно теплой одежды, в Оренбург, Огарев в нашем кругу и И. Киреевский в своем сделали подписки. Все приговоренные были без денег, Киреевский привез собранные деньги коменданту Стаалю, добрейшему старику, о котором нам придется еще говорить. Стааль обещался деньги отдать и спросил Киреевского:
— А это что за бумаги?
— Имена подписавшихся, — сказал Киреевский, — и счет.
— Вы верите, что я деньги отдам? — спросил старик,
— Об этом нечего говорить.
— А я думаю, что те, которые вам их вручили, верят вам. А потому на что ж нам беречь их имена. —С этими словами Стааль список бросил в огонь и, само собою разумеется, поступил превосходно.
Огарев сам свез деньги в казармы, и это сошло с рук. Но молодые люди вздумали поблагодарить из Оренбурга товарищей и, пользуясь случаем, что какой-то чиновник ехал в Москву, попросили его взять письмо, которое доверить почте боялись. Чиновник не преминул воспользоваться таким редким случаем для засвидетельствования всей ярости своих верноподданнических чувств и представил письмо жандармскому окружному генералу в Москве.
Тогда на месте А. А. Волкова, сошедшего с ума на том, что поляки хотят ему поднести польскую корону (155) что за ирония — свести с ума жандармского генерала на короне Ягеллонов!), был Лесовский. Лесовский, сам поляк, был не злой и не дурной человек; расстроив свое именье игрой и какой-то французской актрисой, он философски предпочел место жандармского генерала в Москве месту в яме того же города.
Лесовский призвал Огарева, К<етчера>, С<атина>, Вадима, И. Оболенского и прочих и обвинил их за сношения с государственными преступниками. На замечание Огарева, что он ни к кому не писал, а что если кто к нему писал, то за это он отвечать не может, к тому же до него никакого письма и не доходило, Лесовский отвечал:
— Вы делали для них подписку, это еще хуже.На первый раз государь так милосерд, что он вас прощает,только, господа, предупреждаю вас, за вами будет строгий надзор, будьте осторожны.
Лесовский осмотрел всех значительным взглядом и, остановившись на К<етчере>, который был всех выше, постарше и так грозно поднимал брови, прибавил:
— Вам-то, милостивый государь, в вашем званиикак не стыдно?
Можно было думать, что К<етчер> был тогда вице-канцлером российских орденов, а он занимал только должность уездного лекаря.
Я не был призван, вероятно моего имени в письме не было.
Угроза эта была чином, посвящением, мощными шпорами. Совет Лесовского попал маслом в огонь, и мы, как бы облегчая будущий надзор полиции, надели на себя бархатные береты a la Karl Sand и повязали на шею одинакие трехцветные шарфы!
Полковник Шубинский, тихо и мягко, бархатной ступней подбиравшийся на место Лесовского, цепко ухватился за его слабостьс нами, мы должны были послужить одной из ступенек его повышения по службе — и послужили.
Но прежде прибавлю несколько слов о судьбе Сунгурова и его товарищей.
КольрейфаНиколай возвратил через десять летиз Оренбурга, где стоял его полк. Он его простил за чахотку так, как за чахотку произвел Полежаева в офицеры, а Бестужеву дал крест за смерть.Кольрейф воз(156)вратился в Москву и потух на старых руках убитого горем отца.
Костенецкийотличался рядовым на Кавказе и был произведен в офицеры, Антоновичтоже.
Судьба несчастного Сунгурова несравненно страшнее. Пришедши в первый этап на Воробьевых горах, Сунгуров попросил у офицера позволения выйти на воздух из душной избы, битком набитой ссыльными. Офицер, молодой человек лет двадцати, вышел сам с ним на дорогу. Сунгуров, избрав удобную минуту, свернул с дороги и исчез. Вероятно, он очень хорошо знал местность, ему удалось уйти от офицера, но на другой день жандармы попали на его след. Когда Сунгуров увидел, что ему нельзя спастись, он перерезал себе горло. Жандармы привезли его в Москву без памяти и исходящего кровью.
Несчастный офицер был разжалован в солдаты.
Сунгуров не умер… Его снова судили, но уже не как политического преступника, а как беглого поселыцика: ему обрили полголовы. Мера оригинальная и, вероятно, унаследованная от татар, употребляемая в предупреждениепобегов и показывающая, больше телесных наказаний, всю меру презрения к человеческому достоинству со стороны русского законодательства. К этому внешнему сраму сентенция прибавила одинудар плетью в стенах острога. Было ли это исполнено, не знаю. После этого Сунгуров был отправлен в Нерчинск в рудники.
Имя его еще раз прозвучало для меня и потом совсем исчезло.
В Вятке встретил я раз на улице молодого лекаря, товарища по университету, ехавшего куда-то на заводы. Мы разговорились о былых временах, об общих знакомых.
— Боже мой, — сказал лекарь, — знаете ли, кого я видел, ехавши сюда? В Нижегородской губернии сижу я на почтовой станции и жду лошадей. Погода была прескверная. Взошел этапный офицер, приведший партию арестантов пообогреться. Мы с ним разговорились; услышав, что я лекарь, он попросил меня дойти до этапа взглянуть на одного больного из пересыльных, притворяется, что ли, он или вправду крепко болен. Я пошел, разумеется, с намерением во всяком случае подтвердить болезнь колодника. В небольшом этапе (157) было человек восемьдесят народу в цепях, бритых и небритых, женщин, детей; все они расступились перед офицером, и мы увидели на грязним полу, в углу, на соломе какую-то фигуру, завернутую в кафтан ссыльного.
— Вот больной, — сказал офицер.