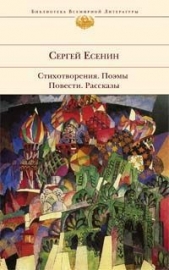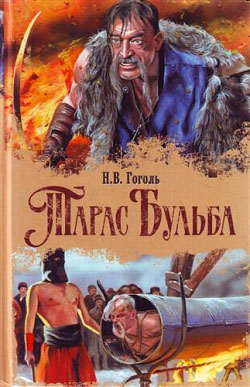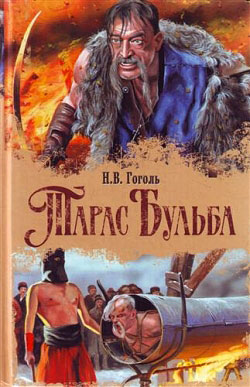Том 2. Миргород

Том 2. Миргород читать книгу онлайн
Во второй том входит продолжение "Вечеров на хуторе близ Диканьки", сборник "Миргород", в который входят повести "Старосветские помещики", "Тарас Бульба", "Вий", "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем".
В данной электронной редакции опущены разделы "Другие редакции" и "Варианты".
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Спирид продолжал: „Зайца увидит скорее, чем табак утрешь из носу. Бывало свиснет: „а ну, Разбой! а ну, Быстрая!“ а сам на коня во всю прыть — и уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит: он ли собаку, или собака его. Сивухи кварту свиснет вдруг, как бы не бывало. Славный быль псарь! Только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на панночку. Вкляпался ли он точно в нее, или уже она так его околдовала, только пропал человек, обабился совсем; сделался чорт знает что; пфу! непристойно и сказать.“
„Хорошо“, сказал Дорош.
„Как только панночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает, Разбоя зовет Бровком, спотыкается и ни весть что делает. Один раз панночка пришла на конюшню, где он чистил коня. Дай говорит, Микитка, я положу на тебя свою ножку. А он дурень и рад тому: говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подняла свою ножку, и как увидел он ее нагую, полную и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за нагие ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю, и куда они ездили, он ничего не мог сказать; только воротился едва живой, и с той поры иссохнул весь, как щепка; и когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы, да пустое ведро: сгорел совсем; сгорел сам собою. А такой был псарь, какого на всем свете не можно найти.“
Когда Спирид окончил рассказ свой, со всех сторон пошли толки о достоинствах бывшего псаря.
„А про Шепчиху ты не слышал?“ сказал Дорош, обращаясь к Хоме.
„Нет.“
„Эге, ге, ге! Так у вас, в бурсе, видно, не слишком большому разуму учат. Ну, слушай: у нас есть на селе козак Шептун. Хороший козак! Он любит иногда украсть и соврать без всякой нужды. Но… хороший козак. Его хата не так далеко отсюда. В такую самую пору, как мы теперь сели вечерять, Шептун с жинкою, окончивши вечерю, легли спать, и так как время было хорошее, то Шепчиха легла на дворе, а Шептун в хате на лавке; или нет: Шепчиха в хате на лавке, а Шептун на дворе…“
„И не на лавке, а на полу легла Шепчиха,“ подхватила баба, стоя у порога и подперши рукою щеку.
Дорош поглядел на нее, потом поглядел вниз, потом опять на нее и, немного помолчав, сказал: „Когда скину с тебя при всех исподницу, то нехорошо будет.“ Это предостережение имело свое действие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила речи.
Дорош продолжал: „А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя — не знаю, мужеского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака и воет так, хоть из хаты беги. Она испугалась: ибо бабы такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за дверей язык, то и душа войдет в пятки. Однако ж думает, дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, авось-либо перестанет выть — и, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее и прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а панночка. Да притом пускай бы уже панночка в таком виде, как она ее знала — это бы еще ничего; но вот вещь и обстоятельство: что она была вся синяя, а глаза горели, как уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. Шепчиха только закричала: „Ох, лишечко!“ да из хаты. Только видит, что в сенях двери заперты. Она на чердак: сидит и дрожит глупая баба, а потом видит, что панночка к ней идет и на чердак; кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже Шептун поутру вытащил оттуда свою жинку всю искусанную и посиневшую. А на другой день и умерла глупая баба. Так вот какие устройства и обольщения бывают! Оно хоть и панского помету, да всё когда ведьма, то ведьма.“
После такого рассказа Дорош самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку, приготовляя ее к набивке табаком. Материя о ведьме сделалась неисчерпаемою. Каждый в свою очередь спешил что-нибудь рассказать. К тому ведьма в виде скирды сена приехала к самым дверям хаты; у другого украла шапку или трубку; у многих девок на селе отрезала косу; у других выпила по нескольку ведер крови.
Наконец вся компания опомнилась и увидела, что заболталась уже чересчур, потому что уже на дворе была совершенная ночь. Все начали разбродиться по ночлегам, находившимся или на кухне, или в сараях, или среди двора.
„А ну, пан Хома! теперь и нам пора итти к покойнице“, сказал седой козак, обратившись к философу, и все четверо, в том числе Спирид и Дорош, отправились в церковь, стегая кнутами собак, которых на улице было великое множество и которые со злости грызли их палки. Философ, несмотря на то, что успел подкрепить себя доброю кружкою горелки, чувствовал втайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освещенной церкви. Рассказы и странные истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению. Мрак под тыном и деревьями начинал редеть; место становилось обнаженнее. Они вступили наконец за ветхую церковную ограду в небольшой дворик, за которым не было ни деревца и открывалось одно пустое поле, да поглощенные ночным мраком луга. Три козака взошли вместе с Хомою по крутой лестнице на крыльцо и вступили в церковь. Здесь они оставили философа, пожелав ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за ним дверь, по приказанию пана.
Философ остался один. Сначала он зевнул, потом потянулся, потом фукнул в обе руки и наконец уже обсмотрелся. Посредине стоял черный гроб. Свечи теплились пред темными образами. Свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви. Отдаленые углы притвора были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость; сквозная резьба его, покрытая золотом, еще блестела одними только искрами. Позолота в одном месте опала, в другом вовсе почернела; лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно. Философ еще раз обсмотрелся. „Что ж“, сказал он: „чего тут бояться? Человек притти сюда не может, а от мертвецов и выходцев из того света есть у меня молитвы, такие, что как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут. Ничего!“ повторил он, махнув рукою: „будем читать.“ Подходя к крылосу, увидел он несколько связок свечей. „Это хорошо“, подумал философ: „нужно осветить всю церковь, так, чтобы видно было, как днем. Эх жаль, что во храме божием не можно люльки выкурить!“ И он принялся прилепливать восковые свечи ко всем карнизам, налоям и образам, не жалея их ни мало, и скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей из старинных резных рам, кое-где сверкавших позолотой. Он подошел ко гробу, с робостию посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши, своих глаз:
Такая страшная, сверкающая красота!
Он отворотился и хотел отойти; но по странному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека, особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее и потом, ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови.
Он поспешно отошел к крылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно молчаливые и оглохлые. Одиноко, без эха, сыпался он густым басом в совершенно мертвой тишине и казался несколько диким даже самому чтецу. „Чего бояться?“ думал он между тем сам про себя. „Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится божьего слова. Пусть лежит! Да и что я за козак, когда бы устрашился. Ну, выпил лишнее — оттого и показывается страшно. А понюхать табаку: эх добрый табак! Славный табак! Хороший табак!“ Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб, и невольное чувство, казалось, шептало ему: вот, вот встанет! вот поднимется, вот выглянет из гроба!