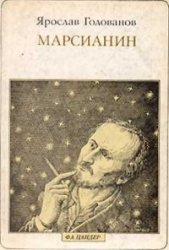Опыт биографии

Опыт биографии читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я толком не знал, зачем мы сюда приехали. Хотя и на сей раз такое неосмысленное решение спасло меня: едва ли я бы продержался в Москве в 1951-52 годах: пытался бы устраиваться на работу, везде заполнял анкеты, толкался в разные двери... На Сахалине, говорили нам, работы непочатый край, нужны люди с университетским образованием, в газете с руками оторвут, можно будет писать, печататься, складывать деньги в банку, а через сколько-то лет обратно... Тем более, мне Сахалин известен, связаны с ним самые романтические ощущения; тем более, на западном побережье сестра с Александром Николаевичем, мама, теплый дом у самого моря... Но приехали мы лютой зимой, вся экзотика под снегом, а в доме на западном побережье жил один кривоногий Кутька - наши торчали в Москве, уехали в долгий отпуск и застряли. Да и зачем на побережье - нельзя всю жизнь работать лаборантом или матросом, зачем нужен был университет, да и хотелось другого.
Прошло два года с тех пор, как я был здесь. Я успел защитить диплом, женился, написал десяток рассказов, пьесу - и все о Сахалине, пережевывая ошеломившую меня экзотику, себя в ней, купаясь в придуманном мире, ритмической прозе, штормах, высоких страстях, запутавшись в романтических судьбах людей придуманных или однажды встретившихся. Реальность проплывала мимо меня, во всяком случае, в моих сочинениях я ухитрился не заметить даже происходящего в университете - заочник! - сдавал зачеты, мне было довольно. Высмотрел себе (хоть и заочник!) самую хорошенькую девушку на курсе и женился, заморочив ей голову рассказами о Сахалине, о том, как мне там было, как нам там будет, и она поверила, оставила вполне благополучный дом, не знавшую забот, раз и навсегда налаженную, спокойную, интеллигентную жизнь...
В ту пору я едва ли задумывался над тем, что такое наша так называемая интеллигенция, хотя материала было много: встречи, общения, дружба, простые или сложные отношения, рядовые или крайние ситуации - мы жили общей жизнью. Люди, усвоившие сумму приемов, обеспечивающих даже не просто сносное, а более чем приличное существование, в котором непременные атрибуты - хорошая квартира, дача, машина, а теперь обязательные заграничные путешествия туристские и командировки, валюта... И при этом - люди милые, добрые порядочные, признающие ответственность только за личную деятельность, а потому никакого душевного разлада. "Весь порядок вещей", как говорили когда-то, никак не тревожит: это, простите, другое дело - у каждого свое.
Целая домашняя философия, позволяющая с аппетитом пользоваться земными благами, испытывая чувство превосходства и легкого раздражения к неудачникам, лишенным всего этого, хотя личная порядочность в конкретном деле, способствующая такому нерушимо-умиротворен-ному состоянию, не может не обернуться равнодушием, лицемерием перед самим собой, несомненной договоренностью с собственной совестью. Можно ли иначе смаковать честно заработанное, зная, что творится за стеной, и может ли оставаться спокойным человек нравственный, обезопасив себя формальным непричастием к самоочевидному общественному преступлению?
Но я говорю о лучших, добрых по природе, готовых помочь и даже поделиться. Чаще всего мы сталкиваемся со вполне циничным усвоением немудрящего правила: с волками жить - по-волчьи... Бездарному и примитивно-грубому разбою противопоставлен разбой изящный, талантливый, во всяком случае легкий, которым можно при случае похвастаться: отнято у бандитов... Нравственный нигилизм, ведущий к духовной деградации.
Позади был десятидневный, знакомый мне поезд до Хабаровска, потом самолет, все это еще в отъездной горячке, азарте - все-таки мы только что поженились, кончили университет, защитили дипломы; во мне еще гудели, перекатывались фразы из Герцена - я писал работу по материалам самых блистательных его книг конца сороковых годов прошлого века, но его пафос, который, разумеется, не мог меня не затронуть, воспринимался вполне абстрактно-исторически, не соотносясь с реальной жизнью. Пора политических иллюзий, как правило, возникает объективно, едва ли я мог в 1950-51 годах воспринимать горечь "С того берега", как нечто относящееся к нам с неменьшей остротой, чем к современникам автора. К тому же руководитель моей работы, известный ныне Эльсберг, для нас в ту пору всего лишь преуспевающий, блестящий профессор, - умело и незаметно отодвигал меня ото всяких возможностей направленного подтекста.
"Нет, друзья мои, - цитировал я, - я не могу переступить рубеж этого царства мглы, произвола, молчаливого замирания, гибели без вести, мучений с платком во рту..." Но это Герцен писал своим друзьям о невозможности ему Герцену - возвращаться в Россию; это он и его друзья испытывали на себе последекабрьскую мглу и цензурный гнет, губивший литерату-ру. "Повиноваться противно своему убеждению, когда есть возможность не повиноваться, безнравственно..." Но мог ли я хоть как-то соотносить эти слова с современностью - была ли хоть какая-то возможность неповиновения, да и хоть сколько-нибудь четких убеждений у меня, разумеется, в ту пору не существовало. Я с восторгом читал и цитировал все из той же книги: "На борьбу - идем; на глухое мученичество, на бесплодное молчание, на повиновение - ни под каким видом. Требуйте от меня всего, но не требуйте двоедушия, не заставляйте меня снова представлять верноподданного, уважьте во мне свободу человека". Или дальше: "Свобода лица - величайшее дело, на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе".
Такого рода подтекст или, скажем иначе, современное переосмысление цитаты возникает чаще всего непроизвольно, благодаря особому нервному настрою, духовной близости, общности размышлений, готовности к восприятию именно такого. Но мог ли я в ту пору хоть как-то соотносить со своими тогдашними ощущениями романтические слова Герцена о борьбе, невозможности двоедушия, бесплодности молчания - думать о свободе лица? Это был фантастический роман, только проецированный не вперед, а назад: "В самые худшие времена европейской истории мы встречаем некоторое уважение к личности, некоторое признание - некоторые права, уступаемые таланту, гению. Несмотря на гнусность тогдашних немецких правительств, Спинозу не послали на поселение, Лессинга не секли или не отдали в солдаты. В этом уважении не к одной материальной, но и к нравственной силе, в этом невольном признании личности - один из великих человеческих принципов европейской жизни..."
Ощущение подтекста, несмотря на всю, казалось бы, естественность его возникновения в конкретном случае, не появлялось у меня, прежде всего, потому, что это было слишком остро - мне недоставало неких промежуточных звеньев, надо было привыкнуть, закалить и настроить все органы чувств, должна была возникнуть инерция такого направленного восприятия, сформироваться собственное, уже сознательное и вполне отчетливо-критическое отношение к собственной реальности. "У нас нет ничего подобного, продолжал Герцен. - У нас лицо всегда подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность - за крамолу..." Здесь действовал какой-то чисто математический закон: какими бы привлекательными ни казались Герцену судьбы Спинозы и Лессинга и далекими от российской гнусности "гнусности тогдашних немецких правительств", соотношения там были значительно более близкими, чем, в свою очередь, наше и герценовское. Там различие было количественным - у нас оно стало качественно иным. Потому, кстати, Герцен после своей высылки мог, тем не менее, оказаться в Лондоне, а не в местах географически противоположных.
Степень подавления и поглощения была несоизмеримой. "Тайна" направленного подтекста - в кажущейся на первый взгляд парадоксальной мысли о его естественной непроизвольности. Просто, когда приходит пора, человек совестливый не может не переосмыслить такого рода материал, даже не думая об этом специально, - истинный и сильный подтекст совершенно органичен, он в душевном настрое автора, передающемся его читателю.