Том 12. В среде умеренности и аккуратности
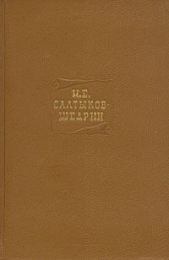
Том 12. В среде умеренности и аккуратности читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника». Именно эти произведения и в такой последовательности Салтыков предполагал объединить в одном томе собрания своих сочинений, готовя в 1887 г. его проспект.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Говорят, что Россия есть страна переворотов мирных, — продолжал он, — что у нас мероприятия возбуждают не эфемерный энтузиазм, но более прочное повиновение. Может быть, что это и так! Может быть, может быть… может быть! Но согласись, что это горько! что от этого «повиновения» веет холодом! что есть минуты, когда чувствуется потребность, когда к сердцу подступает… одним словом… ну, да что об этом! Так-то вот, ты и у нас, в нашем департаменте… сстаррый, добррый товарищ!
Он наклонился ко мне, и я уже видел минуту, что он поцелует меня. Но вместо того чтоб облобызать меня, он вдруг покраснел, откинулся на спинку кресла и зажмурил глаза. Очевидно, ему показалось, что я отнесся к нему слишком уж сдержанно. А так как в мои расчеты вовсе не входило производить такого рода впечатления, то я, в свою очередь, встревожился.
— Послушай, — начал я, — так как же? собственно о моем-то деле… как же ты полагаешь?
Он вновь открыл глаза и на этот раз посмотрел на меня, как мне показалось, довольно иронически.
— Н-да? ты хочешь, конечно, чтоб я тебя с Иваном Семенычем свел? — сказал он, — охотно, мой друг! с величайшим удовольствием! Но подожди минутку: я сейчас велю узнать, воротился ли он от доклада!
Он взялся за звонок; но Иван Семеныч был легок на помине, и едва успели мы произнести его имя, как он персонально явился перед нами.
— А! писатель! — вскричал он, — я его ищу, а он вот где! Что, батюшка! к Исусу потянули? трясутся поджилки-то? ха-ха!
— Нет, не поджилки, а вообще…
— Во всем, значит, теле трясение… ха-ха! Знаю, батюшка! знаю! Сам, грешным делом, пописываю… знаю! ха-ха!
— Вот и я говорил, что вы литературой занимаетесь, — молвил Тугаринов, — и что по пятницам…
— То есть я, собственно, не литературой, а поэзией… ха-ха! Бряцаю при случае… ха-ха!
— Мы ведь с ним, Иван Семеныч, — товарищи! — пояснил Тугаринов, — как же! в школе… рядом… Старый товарищ!
Тугаринов протянул мне руку, примеру его последовал и Иван Семеныч, сказав:
— Очень рад! очень рад! а что касается до пятниц, так милости просим! милости просим… ежели не побрезгуете… ха-ха!
— У Ивана Семеныча, мой друг, очень многие бывают, а между прочим и такие люди, с которыми тебе очень и очень не мешало бы познакомиться!
— Бывают, бывают… ха-ха! Фаддей иногда с Волкова заходит… к закуске… ха-ха! впрочем, с Волкова ли? не со Смоленского ли?.. * нынче ведь могил-то этих не помнят… ха-ха! Я и сам, признаться, забыл… В ту пору мы с Кукольником на похоронах-то были… или то бишь не с Булгариным ли мы у Кукольника на похоронах были… ха-ха!
— А может быть, и у Греча? — пошутил Тугаринов.
— А что вы думаете — и в самом деле у Греча! ха-ха! Да, все перемерли… литераторы! То есть, хоть и остались еще литераторы — только не те… ха-ха!
— А знаешь ли ты, что на последнем вечере у Ивана Семеныча и твою вещь читали? Как бишь ее?
— Как же! читали… ха-ха! И как только вас земля носит… ха-ха! Да, почитываем мы вас… ха-ха!
— Так знаешь ли, как мы сделаем, — обратился ко мне Тугаринов, — в следующую пятницу я заеду за тобой — мы вместе и отправимся к Ивану Семенычу… без церемоний!
— Какие церемонии… ха-ха! Очень рад, очень рад! Да вы не опасайтесь: мы не одною департаментскою поэзией вас угостим! мы не только читаем, но и вкушаем… ха-ха!
— Да еще как вкушаем-то!
И Тугаринов, и Иван Семеныч посмотрели на меня такими радостными глазами, точно им удалось «обрящить».
— А ведь я к вам по делу, Иван Семеныч! — рискнул напомнить я.
— Есть и дельце… ха-ха! вот в пятницу пожалуйте… тогда и рассмотрим вкупе… ха-ха!
— Нельзя ли теперь?
— Загорелось… ха-ха! Да просто залучить вас сюда хотел, посмотреть на вас — ну, и написал Алексею Степанычу цидулу! вот вам и дельце… ха-ха!
— Нет! вы шутите!
— А впрочем, есть и дельце, коли хотите, да не стоит об нем говорить! Словцо там одно… ха-ха! Не бойтесь, мы его кругом пальца обвернем, дельце ваше! Сам, батюшка, литератор… хотя и не нынешний, а знаю… ха-ха!
— Но в чем же, однако, дело? — настаивал я.
— Говорю вам: не стоит тратить слов… залучить вас хотелось, и успел в том… ха-ха!
Мне вдруг сделалось ужасно неловко, почти стыдно. Я и сам не мог дать себе отчета, почему стыдно; но какое-то непреодолимое желание «уйти» охватило все мое существо.
— Так, стало быть, к генералу… не надо? — лепетал я, не понимая, что я говорю.
— К какому генералу? Вот в пятницу приедете — и генерала увидите… ха-ха! Он будет даже рад… Почитываем мы вас, батюшка, почитываем… ха-ха! Познакомитесь, поговорите, а между тем и дельце ваше… ха-ха!
Затем я просидел еще с пять минут, и уже не помню, что происходило со мной. Помню только, что и я пожимал руки, и мне пожимали руки, и что когда наконец, почти шатаясь, я направился через анфиладу к выходу, то во всех комнатах меня сторожили любопытные, в глазах которых я явственно читал:
«Почитываем мы вас! да, почитываем!»
Глава VI *
Таким образом, благодаря «уступочкам» — с одной стороны, и «обстановочкам» — с другой, молчалинская жизнь кое-как налаживается. Жизнь смурая, спутанная, сама себе не дающая отчета в том, почему она называет себя жизнью, а не смертью.
Среди этих сумерек Молчалин, их главный устроитель, чувствует себя вполне хорошо. Он не только счастлив сам лично, но убежден, что и другие должны быть счастливы; что сумерки именно и представляют ту идеальную норму человеческого существования, которая должна всех удовлетворять и за пределами которой начинается уже прихоть. Ухитивши свое гнездо, завоевавши себе: в настоящем — тепло и сытость, в будущем — завидную историческую безответственность, он с истинно молчалинским благодушием предает забвению свой недавний мартиролог, окончательно успокоивается, разнеживается и даже позволяет себе слегка помечтать.
Мечты его имеют тот же детски-непритязательный характер, которым отличается и вся его жизнь. Он видит себя в отставке, почившим от дел, сытым, благодаря получаемой пенсии, благодарным, свободным от угрызений совести, почтенным от соседей и начальства и ни в чем не замеченным. А главное, он видит себя окруженным взрослыми Молчалиными-детьми, прямо и без особенных усилий утвердившимися на той же молчалинской колее, которую он с таким неслыханным самоотвержением для них проложил.
Но тут-то именно и надвигается на Молчалина из-за угла совершенно новый и притом отнюдь не предвиденный им мартиролог.
Истинно больное место существования Молчалиных — совсем не там, где они сами его видят, совсем не в их прошлом, хотя это прошлое и до краев переполнено лишениями, обидами и унижениями. Не назади, а впереди ждет их настоящая казнь, которая будет тем жесточе, что ее предстоит принять беспрекословно, не вдаваясь, даже втихомолку, в разыскание законности или незаконности поводов, обусловивших ее появление. И эту казнь им принесут Молчалины-дети.
Эта новая казнь заставит на̀ново перечувствовать все казни прошлого и к старым обостренным истязаниям прибавит новое, неслыханно жгучее истязание.
Как отнесутся Молчалины-дети к деятельности Молчалиных-отцов? Отвернутся ли от нее с суровой неумолимостью бесповоротного убеждения или же, более мягкосердечные, подарят ей смягчающие обстоятельства… только смягчающие обстоятельства? В том или другом случае разве это не казнь?
Но и помимо этой неизбежной казни, предвидится еще другая, не менее неизбежная. Дети… ах, эти дети! Хорошо, как они по наторенной молчалинской дорожке пойдут, а вдруг очутятся совсем не там? Как их старческими-то руками удержать? как старческими думами уследить за ними? как старческими словами урезонить их?
— А ну, как Павел-то Алексеич мой как ни на есть недоглядит за собой? — сказал мне однажды Алексей Степаныч, и, по моему мнению, в этих немногих словах он очертил целый трагический сценарий.

























