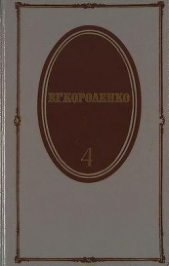Том 5. История моего современника. Книга 1

Том 5. История моего современника. Книга 1 читать книгу онлайн
Пятый том составляет первая книга «Истории моего современника».
«История моего современника» — крупнейшее произведение В. Г. Короленко, над которым он работал с 1905 по 1921 год. Писалось оно со значительными перерывами и осталось незавершенным, так как каждый раз те или иные политические события отвлекали Короленко от этого труда.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однажды кто-то из служебных врагов Крыжановского поднял было по этому поводу гнусную кляузу, но Крыжановский заблаговременно предупредил ее последствия: самовар он за собственный счет вылудил, к одной двустволке приделал новый курок, а на сапоги судейский сторож накинул иждивением архивариуса подметки. «Хоть это и стоило денег», как с торжеством говорил сам Крыжановский, зато ядовитый донос потерял силу. Работал он неровно, порывами: то целыми днями слонялся где-то со своей тоской, то внезапно принимался за приведение дел в порядок. В таких случаях он брал с собой бутыль водки и запирался в архиве. В маленьком решетчатом оконце архива поздно ночью светился огонь. Крыжановский сшивал, подшивал, припечатывал, заносил в ведомости и пил, пока в одно прекрасное утро дела оказывались подшитыми, бутыль пуста, а архивариус лежал на полу и храпел, раскинув руки и ноги…
Вскоре после нашего приезда, двадцатого числа, Крыжановский попросил у матери позволения взять нас с собой на прогулку.
— Пане Крыжановский?.. — сказала мать полувопросительно, полустрого.
— Ах, пани сендзина, — сказал он, целуя у нее руку. — Неужели и вы… считаете меня совсем пропащим?
Мать согласилась, и мы отправились. Крыжановский водил нас по городу, угощал конфетами и яблоками, и все шло превосходно, пока он не остановился в раздумье у какой-то невзрачной хибарки. Постояв так в нерешимости, он сказал: «Ничего — я сейчас» — и быстро нырнул в низкую дверь. Оттуда он вышел слегка изменившимся, весело подмигнул нам и сказал:
— Матери говорить не надо. — И, вздохнув, прибавил — Святая женщина!
Увы! За первой остановкой последовала вторая, за ней — третья, и, пока мы дошли до центра города, — пан Крыжановский стал совершенно неузнаваем. Глаза его гордо сверкали, уныние исчезло, но — что уже было совсем плохо — он стал задирать прохожих, оскорблять женщин, гоняться за евреями… Около нас стала собираться толпа. К счастью, это было уже близко от дома, и мы поспешили ретироваться во двор.
После этого пан Крыжановский исчез, не являлся на службу, и об его существовании мы узнавали только из ежедневных донесений отцовского лакея Захара. Сведения были малоутешительные. В один день Крыжановский смешал на биллиарде шары у игравшей компании, после чего «вышел большой шум». На другой день он подрался с будочниками. На третий — ворвался в компанию чиновников и нанес пощечину столоначальнику Венцелю.
Отец страшно рассердился, упрекал мать, что она покровительствует этому висельнику, и потребовал, чтобы Крыжановского доставили ему живого или мертвого. Но об архивариусе не было ни слуху ни духу.
На третий или на четвертый день мы с братом и сестрой были в саду, когда Крыжановский неожиданно перемахнул своими длинными ногами через забор со стороны пруда и, присев в высокой траве и бурьянах, поманил нас к себе. Вид у него был унылый и несчастный, лицо помятое, глаза совсем мутные, нос еще более покривился и даже как будто обвис.
— Тесс… — сказал он, косясь на терраску нашей квартиры, выходившую в сад. — Что, как пан судья? Очень сердит?..
— Сердит, — ответили мы.
— А пани сендзина (госпожа судейша)?..
Мы не могли скрывать, что даже мать не смеет ничего сказать в его защиту.
— Святая женщина! — сказал Крыжановский, смахивая слезу. — Подите, мои милые друзья, спросите у нее, можно ли мне явиться сегодня или еще обождать?
Мы принесли ответ, что ему лучше не являться, и архивариус опять тем же путем перемахнул через забор — как раз вовремя, так как вслед за тем отец появился на террасе.
Прошло еще два дня. Было воскресенье. Отец недавно вернулся из церкви в благодушном настроении и, надев халат, ходил взад и вперед по гостиной. Когда он, повернув к двери, пошел в противоположный угол, из сеней вдруг вынырнула длинная фигура архивариуса. Сделав нам многозначительный знак, он неслышно переступил через порог и застыл у косяка. Но едва отец, прихрамывая и опираясь на палку, дошел до конца комнаты, — архивариус так же неслышно исчез опять в сенях. Это повторилось несколько раз. Наконец, приняв окончательное решение, он перекрестился, опять выступил из-за стены, прислонился, точно прилип спиной к косяку, и застыл в этой позе.
Отец повернулся и увидел преступника. У него в Дубно был легкий удар, и мать очень боялась повторений. Теперь, при неожиданном появлении виновного архивариуса, лицо, лоб, даже затылок у отца залило краской, палка у него в руке задрожала. Крыжановский, жалкий, как провинившаяся собака, подошел к судье и наклонился к его руке. Отец схватил нагнувшегося великана за волосы… Затем произошла странная сцена: судья своей слабой рукой таскал архивариуса за жесткий вихор, то наклоняя его голову, то подымая кверху. Крыжановский старался только облегчить ему эту работу, покорно водя голову за рукой. Когда голова наклонялась, архивариус целовал судью в живот, когда подымалась, он целовал в плечо и все время приговаривал голосом, в который старался вложить как можно больше убедительности:
— А! пан судья… А! ей-богу!.. Ну, стоит ли? Это может повредить вашему здоровью… Ну, будет уже, ну, довольно…
Из кухни прибежала мать и, успокаивая отца, постаралась освободить волосы Крыжановского из его руки. Когда это удалось, архивариус еще раз поцеловал отца в плечо и сказал:
— Ну, вот и все… И слава богу… пусть теперь пан судья успокоится. Стоит ли, ей-богу, принимать так близко к сердцу всякие там пустяки…
— Пошел вон! — сказал отец. Крыжановский поцеловал у матери руку, сказал «святая женщина» и радостно скрылся. Мы поняли как-то сразу, что все кончено и Крыжановский останется на службе. Действительно, на следующий день он опять как ни в чем не бывало работал в архиве. Огонек из решетчатого оконца светил на двор до поздней ночи.
Нравы в чиновничьей среде того времени были простые. Судейские с величайшим любопытством расспрашивали нас о подробностях этой сцены и хохотали. Не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь считал при этом себя или Крыжановского профессионально оскорбленным. Мы тоже смеялись. Юность недостаточно чутка к скрытым драмам; однажды мы даже сочинили общими усилиями юмористическое стихотворение и подали его Крыжановскому в виде деловой бумаги. Начиналось оно словами:
и заключало насмешливое изложение его служебных неудач и горестей. Крыжановский начал читать, но затем нервно скомкал бумагу, сунул ее в карман и, посмотрев на нас своими тускло-унылыми глазами, сказал только:
— Учат вас… балбесы…
На следующий день Крыжановский исчез. Одни говорили, что видели его, оборванного и пьяного, где-то на ярмарке в Тульчине. Другие склонны были верить легенде о каком-то якобы полученном им наследстве, призвавшем его к новой жизни.
Вообще, ближайшее знакомство с «уездным судом» дало мне еще раз в усложненном виде то самое ощущение изнанки явлений, какое я испытал в раннем детстве при виде сломанного крыльца. В Житомире отец ежедневно уезжал «на службу», и эта «служба» представлялась нам всем чем-то важным, несколько таинственным, отчасти роковым (это было «царство закона») и возвышенным.
Здесь этот таинственный храм правосудия находился у нас во дворе… В его преддверии помещалась сторожка, где бравый николаевский унтер в неслужебное время чинил чиновничью обувь и, кажется, торговал водкой. Из сторожки так и садило особым жилым «духом».
Впрочем, этот жилой дух, острый, щекотавший в ноздрях и царапавший в горле, не выводился и в «канцеляриях». Некоторые писцы не имели квартир и неизменно проживали в суде. В черных шкапах, кроме бумаг, хранились засаленные манишки и жилеты, тарелки с обрезками колбасы и другие неофициальные предметы. Оклады чиновников, даже принимая во внимание дешевизну, были все-таки изумительные. Архивариус получал восемь рублей в месяц и считался счастливцем. Штатные писцы получали по три рубля, а вольнонаемные по «пяти злотых» (на польский счет злотый считался в пятнадцать копеек). Здесь, очевидно, коренилось то философское отношение, с каким отец глядел на мелкое взяточничество подчиненных: без «благодарности» обывателей они должны бы буквально умирать с голоду. Некоторые из судейской молодежи, кому не помогали родственники, ютились в подвалах старого замка или же устраивались «вечными дежурными» в суде. Таким вечным дежурным был, например, некий пан Ляцковский. Получал он всего-навсего три рубля, несколько зашибал и имел наклонность к щегольству: носил грязные крахмальные манишки, а курчавые пепельные волосы густо смазывал помадой. За всеми этими потребностями денег на квартиру у него не оставалось. Таких бедняков было еще пять-шесть, и они за самую скромную плату дежурили за всех. По вечерам в опустевших канцеляриях уездного суда горел какой-нибудь сальный огарок, стояла посудинка водки, лежало на сахарной бумаге несколько огурцов и дежурные резались до глубокой ночи в карты… По утрам святилище правосудия имело вид далеко не официальный. На нескольких столах, без постелей, врастяжку храпели «дежурные», в брюках, грязных сорочках и желтых носках. Когда пан Ляцковский, кислый, невыспавшийся и похмельный, протирал глаза и поднимался со своего служебного ложа, то на обертке «дела», которое служило ему на эту ночь изголовьем, оставалось всегда явственное жирное пятно от помады. После «двадцатого числа» в суде по вечерам становилось несколько шумно. За картами у дежурных порой возникали даже драки. Если авторитет сторожа оказывался недостаточным, то на место являлся отец, в халате, туфлях и с палкой в руке. Чиновники разбегались, летом прыгая в окна: было известно, что, вспылив, судья легко пускал в ход палку…