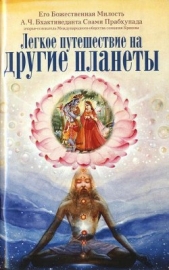Нежеланное путешествие в Сибирь

Нежеланное путешествие в Сибирь читать книгу онлайн
Андрей Алексеевич Амальрик
(1938–1980)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Деревня появилась после строительства Транссибирской магистрали, когда сюда переселились выходцы из Белоруссии. Так они и попали из болота в болото, ничего другого не увидев. Сначала селились преимущественно хуторами. После коллективизации начали съезжаться в деревню, деревня очень разрослась, но после войны народ стал уходить, и вместо восьмидесяти дворов, как я уже говорил, стало тридцать два, причем на них приходится всего пятнадцать трудоспособных мужчин. Пережитки белорусского говора до сих пор сохранились в языке местных крестьян. Соседняя деревня, Ивановка, наполовину состоит из переселенцев из Латгалии; в Ново-Истамбуле, в десяти километрах отсюда, живут татары, немного дальше — поляки, так что край в этнографическом отношении богатый.
На следующий день после приезда я написал письмо отцу, — с дороги мы не имели права писать писем. Ответ пришел через две недели: письма, даже авиапочтой, шли очень долго. Отец писал, что он живет на даче, его часто навещают мои друзья. У него был еще один удар, но теперь стало лучше. Еще он писал о хлопотах о моем освобождении. Сразу же после суда мои друзья пригласили хорошего адвоката, который, ознакомившись с материалами дела, подал жалобу в Московскую городскую прокуратуру. Как я узнал позднее, в это время у всех сложилось впечатление, что я выслан по инициативе районного отдела КГБ, а это, как сказал адвокат: «Не те люди, которым дано нарушать законы». Мнение о районной инициативе сложилось вот почему. Когда Гинзбург накануне публикации своего малоприятного письма в «Вечерней Москве» был у редактора со своим опекуном из КГБ, тот расхвастался: вот, мол, мы в КГБ применяем новые методы работы, не сажаем людей, не высылаем, а перевоспитываем. Гинзбург осторожно заметил, что, напротив, как ему известно, только что при участии КГБ выслан из Москвы некий Амальрик. Всполошившийся опекун стал звонить в разные инстанции КГБ, и никто ничего ему относительно меня не мог сказать, пока он не позвонил оперуполномоченному КГБ по Фрунзенскому району Гончаренко, и тот подтвердил ему факт моей высылки. Отсюда мои друзья заключили, что решение о моей высылке принято районными истанциями и потому будет легко добиться его пересмотра. Однако я считал, что решение о моей высылке принято Московским управлением КГБ, а районный уполномоченный только непосредственно руководил слежкой за мной и организацией судебного процесса. Как выяснилось в дальнейшем, я был прав. Что же касается жалобы адвоката, то через два месяца Московская прокуратура отклонила ее без каких-либо мотивировок.
Как мне казалось, вопрос с моим жильем в Гурьевке решился; надо было подумать, что есть. Бригадир написал нам с Левой записки в кладовую, и мы пошли к кладовщице. Из кладовой снабжались открытые в деревне на летний период ясли, так что там были яйца, сахар, хлеб, подсолнечное масло и даже немного сливочного. Я спросил, будет ли мясо. Оказалось, что мясо будет только тогда, когда в колхоз пришлют из города студентов и рабочих помогать на уборочных работах. Нам все продукты отпускались в счет будущего заработка в колхозе, по рыночным и магазинным ценам. Сама кладовщица никаких цен не знала, она только записывала в ведомость, что мы берем, и сдавала в конце каждого месяца в контору. По скольку отпускать нам хлеба, сахара, масла и яиц, кладовщица тоже точно не знала и отпускала, сколько мы просили, а молока полагалось только литр в день на человека. Когда в первый день я попросил на ферме два литра, чтобы не приходить на следующий, мне довольно грубо ответили: «Знаем мы вас, сегодня мы вам дадим два литра — а завтра вы на работу не выйдете! Не вы здесь первый, не вы последний!» Молоко отпускалось по 20 копеек литр, т. е. тоже по рыночной цене, тогда как государственная закупочная цена у колхозов — 12 копеек литр.
На второй день вечером я перебрался к Вере. Оказалось, ей сорок шесть лет, муж ее недавно умер, и она осталась с пятью детьми — четырьмя мальчиками, старшему из которых было четырнадцать лет, а младшему четыре, и шестилетней девочкой. Приятелем ее мужа был секретарь Кривошеинского райкома Пупов, который и устроил ее в эту деревню заведывать клубом; по совместительству она еще заведывала клубом в Ивановке, в восьми километрах от Гурьевки, но там почти не бывала. За два клуба она получала 70 рублей в месяц. Всю жизнь она прожила в городе, по специальности была телефонисткой и в деревне чувствовала себя крайне нескладно. Естественно, она обрадовалась жильцу, который мог помочь ей по хозяйству. Новокривошеинский сельсовет дал ей полуразвалившийся дом, который теперь она приводила в порядок: месила глину и замазывала щели, а печник ставил ей печку. Я помогал носить песок и разговорился с печником. Это очень выгодная специальность: сложить печь — это три дня работы, а стоит 45–50 рублей, так что в месяц печник зарабатывает примерно 300 рублей, в среднем в десять раз больше колхозника. Мне стало понятно, почему в России печники предпочитают работать по вольному найму и попадают в «тунеядцы».
Нельзя сказать, чтоб жизнь у Веры меня особенно устраивала. Четверо детей (старший был в интернате) постоянно дрались и ругались друг с другом, главным же образом с матерью. Маленькая, изнуренная и раздраженная женщина, она непрерывно кричала на них: «Паразиты проклятые! Чтоб вы сдохли! Хорошие дети вон умирают, а эти паразиты — так ни один не сдохнет!» Те только смеялись на эти пожелания. Когда мы садились есть и она ставила к чаю тарелку сахара, то не успевал я опомниться, как один залезал в нее руками, другой ногами, третий прямо ртом, так что сахару вмиг не оставалось, а если я хотел съесть яйцо, то маленькие дети глядели мне в рот и канючили: «Дай яичко!» Старшие мальчики, как мне кажется, были по натуре не плохие, но их немного уже ожесточила бестолковость матери, безотцовщина и бездомность, так как старшим пришлось жить в детдомах и в интернатах.
Лева устроился у бабки Аксиньи более сносно и усиленно зазывал меня к себе, говоря: я, мол, спокойно и хорошо живу, а ты, мало что на работе надрываешься, еще и здесь воду таскаешь на огород да дрова колешь. Но когда я, было, согласился перейти к нему, решив, что лучше жить с одним Левой, чем с четырьмя детьми, то Вера очень обиделась, и я остался. Конечно, ей не хотелось, чтоб я уходил, потому что она, особенно зимой, боялась остаться одна, и еще она, видимо, строила свои женские планы относительно нашей дальнейшей жизни. Однако мне долго прожить у нее не удалось. В сельсовете ей сделали внушение: как это она, заведующая клубом, и вдруг пустила к себе в дом тунеядца! Расстроенная Вера решила звонить секретарю райкома, который один в районе мог решить этот вопрос. Три дня она не могла до него дозвониться, тем временем наши отношения стали портиться, так как и мне стало у нее жить невмоготу. Я, было, решил перейти к Аксинье, но та довольно прохладно отнеслась к моей просьбе. Выяснилось, что шестидесятилетняя Аксинья строила те же планы относительно Левы, что и Вера относительно меня, так что я был бы там лишним. Из этого, правда, ничего не вышло, и впоследствии Аксинья несколько раз звала меня к себе на квартиру, но я уже твердо решил ни к кому на квартиру не идти.
Еще в день нашего приезда бригадир обмолвился, что есть какой-то дом за плотиной, где жили «тунеядцы», но он совсем разрушен. Вот я и пошел осмотреть этот дом. Дом стоял не на главной улице у плотины, а во второй линии, самым последним. В доме мне очень понравилось, стояла сильная жара, а там было прохладно. Дом был четырехстенный, с одной большой комнатой в 30 кв. м., с тремя оконцами — одним на восток и двумя на север, с дверью из полуразрушенных сеней, южная стена была сплошная, так как зимой дуют холодные южные ветры. Справа от двери была не печь, а кирпичная плита с двумя конфорками. В комнате стоял шаткий остов деревянной кровати, такой же, какая была у Ван Гога в Арле, и большой стол, весь изрезанный надписями: здесь были «Саша», «Вова», «Надя» и многократно повторяющиеся загадочные «Тир и Эт», а также вырезанное аршинными буквами поверх всего известное короткое русское слово. Дом был весь трухлявый, нескольких стекол в рамах не было, электричество было отключено, но жить в нем было вполне можно, во всяком случае летом. При доме была еще одна достопримечательность: большая уборная с выгребной ямой. Во всей деревне уборных было, может быть, четыре или пять, большинство жителей присаживалось где придется. Мы с бригадиром заделали пустые рамы толем: стекла не было, он обещал, что электрик подключит электричество, как только приедет в деревню, и я перешел сюда жить, перенеся свои вещи от Веры. Кладовщица дала мне два ведра, рукомойник, две алюминиевые миски, ложку, вилку, топор, пилу, кастрюлю, чайник, маленькую сковородку и матрас, сшитый из двух мешков, а бригадир привез старую железную печку. Я поставил печку во дворе, набил матрас сеном, купил в магазине бидон для молока и нож, и зажил своим хозяйством. Теперь я был совсем один.