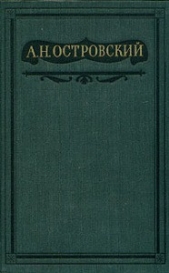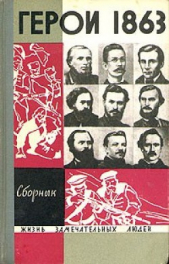Николай Негорев, или Благополучный россиянин

Николай Негорев, или Благополучный россиянин читать книгу онлайн
«Николай Негорев, или Благополучный россиянин» — роман-хроника. В центре книги — молодое поколение мелкопоместной семьи Негоревых. Автор рисует формирование характеров двух братьев Негоревых, Николая и Андрея, их сестры, их друзей и соучеников.
Заглавный герой, скрытный и эгоистичный, с детства мечтает устроить свою судьбу лучше других, всем завидует и никого не любит. Он хитер и расчетлив, умеет угодить и неуклонно идет к своей цели…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Как же ты хочешь быть поэтом и ничего не читаешь, — сказал я брату, возвращая тетрадь.
— А что ж читать? — с недоумением спросил Андрей.
Я начал ему рассказывать, сколько прекрасных вещей прочитали мы в книгах, которые я нес, и он слушал меня так внимательно, как не слушал, кажется, никогда в жизни. После этого Андрей тоже набрал у Шрамов книг и занялся чтением. По поводу всех этих обстоятельств у нас с братом установились на некоторое время довольно дружественные отношения, и мы начали с ним разговаривать и даже спорить о прочитанных статьях. Так как мы отыскивали везде косвенный смысл, думая, что автор запрятывает свою контрабандную идею как можно дальше, чтобы провести ее через цензорский шлагбаум, то для самых наивных предположений и толков открывалось широкое поле, и спорам не было конца.
Оверин, узнав от брата, что в новых книгах пишется что-то удивительное, тоже пристрастился к чтению и стал просиживать над журналами положительно целые ночи, вытаскивая для этой цели сальные свечи из ночников. Такая усидчивость, само собою разумеется, подавала повод многим молодым людям шутливого характера закутываться в простыни и являться перед Овериным, рыкая не своим голосом. Но он был так увлечен, что часто не замечал, кто и каким родом гасил у него свечку перед самым носом. Один бог знает, чем он объяснял эти удивительные пассажи, но никогда, по-видимому, не удивлялся им и всегда самым хладнокровным образом отыскивал в темноте угашенную свечу, шел в спальню зажечь ее и снова принимался за чтение, как будто ничего особенного не случилось… Когда мы прочитывали книги, Володя покровительственно брал их с собой и на другой день привозил новые.
— Читайте, читайте, — улыбаясь, говорил он, как будто хотел прибавить: «Читайте, забавляйтесь, дети: в этом нет ничего вредного».
Порой он снисходил до некоторых объяснений, и мы узнавали, что такая-то неподписанная статья принадлежит Чернышевскому, который пишет очень хорошо; что над Якушкиным смеяться не следует, что — бов — псевдоним Добролюбова и проч. и проч. Впрочем, все эти объяснения он давал, небрежно улыбаясь и показывая вид, что говорит так, больше для собственного удовольствия, чем для нашего поучения.
В занятиях литературой прошло незаметно месяца три, пока мы дождались нового директора. Адам Ильич объявил нам эту новость, прибежав в пансион, как сумасшедший. Нечего и говорить, что тотчас же началась суета, метенье полов, чищение дверных ручек, обтиранье столов и проч. и проч. Нам немедленно выдали чистое белье и новые курточки.
— Ах, да ради бога почистите сапоги! Пуговицы пришейте! Причешите головы! — с отчаянием кричал в разных местах Адам Ильич, то появляясь в сторожке, то мелькая по коридору, то с отчаянием садясь на кровать в спальне.
Наконец он поймал как-то Оверина, за которого боялся больше всего и которого теперь потащил в сторожку умывать и причесывать. С гребенкой в руке Адам Ильич чесал Оверину волосы и умолял его не делать скандалов.
— Уж вы, пожалуйста, господин Оверин, не брякните чего-нибудь новому директору, — говорил он, вертя в своих проворных руках голову Оверина, как какой-нибудь кочан капусты.
— Мы… — мычал только Оверин, как бык, которого ворочают за рога.
Не успел Адам Ильич покончить с ним, как кто-то прибежал сказать, что директор приехал в пансион.
— Эх, уж спрячьтесь лучше куда-нибудь, — вскричал Адам Ильич, бросая гребенку.
Он побежал встречать директора и прибавлял и прибавлял рыси, с ужасом замечая, что Оверин в незастегнутой курточке преследует его по пятам.
Директор вошел в дверь, складывая свой зонтик. Он очень спокойно снял шляпу и вежливо поклонился нам.
— Здравствуйте, господа!
— Здравствуйте, — громко ответил Оверин, совершенно упустивший из виду, что в этом случае было бы весьма прилично поклониться.
На лице Адама Ильича изобразилось самое пламенное желание провалиться сквозь землю.
— Будьте добры, не кладите так пальто, а повесьте его: оно намокло дождем, — с величайшей вежливостью сказал директор, обращаясь к служителю, который в суете хотел положить его пальто на ларь.
Это вы, обращенное к солдату, показалось нам так милым и оригинальным, что мы надолго изгнали из употребления «сердечное ты», и даже мальчишка-сапожник с намазанным ваксой лицом, приходивший отбирать наши сапоги в починку, удостоивался обращений в таком роде: «Потрудитесь, пожалуйста, расколотить и мои сапоги».
Директор был высокий худощавый мужчина, с лицом такого цвета, какого бывает потусклый медный пятак. Вообще наружность его заключала в себе очень мало красивого, но его спокойные манеры, мягкий голос и добродушные складки вокруг рта придавали ему очень симпатичный вид. Мы с первого раза почувствовали к нему некоторую долю почтения и стали совеститься тех доблестных шалостей, которыми гордились некогда.
С приездом нового директора явились и новые порядки. Всякая военная субординация: хождение шеренгами к обеду, пение молитв и проч. были уничтожены; солдатчина значительно стала ослабевать, и из пансиона мало-помалу начал выветриваться казарменный запах. В преподавании также произошли некоторые изменения. Федор Митрич с своими кокосами и ананасами навсегда удалился в отставку. Географию начал преподавать Яков Степанович, а на его место учителем словесности приехал некто Иван Иваныч, бакалавр какой-то духовной академии, маленький человек с такой смешной наружностью, что с первого же раза ему надавали множество названий: «финтик», «мухрышка», «волчок», «фортунка» и проч. и проч. Поджарый, сухой, гибкий и живой, как ящерица, с своим белобрысым лицом и белыми бакенбардами, каждый волос которых торчал отдельно, как в круглой щетке для чищения ламповых стекол, он напоминал тех карикатурных подьячих, которые являются только на театральных подмостках, с чернилкой на пуговице и пером, заткнутым за ухо.
Поступление нового учителя ознаменовалось пробной лекцией, в ожидании которой Малинин состроил целое здание предположений относительно того, как директор будет экзаменовать при нас Ивана Иваныча и поправлять его ошибки. Но ничего подобного не произошло: директор всю лекцию молча просидел за партой, подле Оверина, между тем как Иван Иваныч, с азартом бегая по классу и ежеминутно угрожая вспрыгнуть на стол, выкрикивал нам историю буквы «юс» и производил слово ганза от исконного славянского слова союз, причем он с величайшей энергией гнусавил: «ёнза, гёнза, гонза, ганза» и немилосердно стукал мелом в доску. Он бегал по классу, как мышь, попавшая в ловушку и отыскивающая дырочку для выхода; лоб его морщился, уши двигались, нос попеременно краснел и бледнел, а руками он махал с такой энергией, что надо было удивляться, как они у него не оторвутся.
Иван Иваныч был для нас совсем новый учитель. Он не только не угощал никого кокосами, но даже не распекал никого. Приходя на лекцию, он начинал бегать по классу, махать руками и неистово стучать мелом в доску, выбивая при этом своим языком самую мелкую барабанную дробь. После звонка он вручал нам свою лекцию, четко написанную на голландской бумаге, и оставлял нас блуждать с благоговейным недоумением по глухим трущобам своих ученых терминов и заковыристых определений, вроде «любовь есть идеальность в реальности некоторой части бесконечной общности жизненной сущности, полагаемой в вожделенности и проявляющейся телесностью, потому что я + ты = ему» и т. п. фраз, прекрасных, в наших глазах, больше по своей краткости, нежели ясности.
Но Иван Иваныч был полезен для нас не столько своими ученейшими записками по логике и риторике, сколько тем, что почти всех приохотил к чтению, раздавая свои книги и журналы. Мы от него в первый раз услышали о Белинском и перестали прокидывать в журналах страницы, отмеченные скучным словом критика.
Как-то незаметно дни проходили за днями, и мы делались все либеральнее и либеральнее час от часу. Малинин списал в превосходную тетрадку стихотворения Рылеева и Огарева и даже, с явной опасностью для своей жизни, заучил эти стихотворения наизусть, пряча, впрочем, самую тетрадку под корыто, на чердаке, куда бегал по двадцати раз в день посмотреть, не отыскала ли полиция следов его преступления.