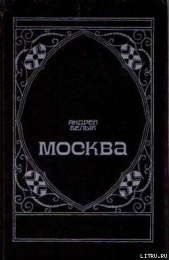Том 4. Маски

Том 4. Маски читать книгу онлайн
Андрей Белый (1880–1934) вошел в русскую литературу как теоретик символизма, философ, поэт и прозаик. Его творчество искрящееся, но холодное, основанное на парадоксах и контрастах.
В четвертый том Собрания сочинений включен роман «Маски» — последняя из задуманных писателем трех частей единого произведения о Москве.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Это-с, — наглядное изображение формул в пространстве.
— Скажите пожалуйста! — князь.
И улыбки не сдерживая, бросил взгляд Синепапичу, двинулся белой рукою, отставив мизинец; спросил деликатно: какими мотивами руководился профессор, — абстракцию, формулу, перелагая во что-то подобное,… — слов не нашел он.
И — задержь, замин:
— На каком основании?
Двинулся корпусом вместе с рукой: полновесно.
Профессор, упавший на локти, как ждавший атаки солдат, из окопа штыком вылезающий, — носом на князя полез из-за столика:
— Для упраженья ума-с!
И отбросившись к спинке, на ручку припавши, рукой Синепапичу высказал:
— Я держусь мненья, что Спенсер был прав, выводя из игры достижения высших способностей, — и облизнулся, как кот перед мясом, на мысли свои, — меж игрой и фантами нет перехода; и нет перехода меж знанием, — выпрямился, озирая их всех, — и фантазией; так полагал Пирогов.
И огладился.
— Так полагаю и я.
Явно — князь не понравился; явно — по адресу князя он выбросил:
— В ком нет игры, тот едва ли способен к культуре, — что? — к князю.
Но Спенсера князь не читал; Пирогова не знал; он уныло осекся; и хлопал глазами в окно, под подъезд, над которым баранная морда, фасонистый фавн. — Николай Николаевич, —
— пучился.
Тут Синепапич, забыв про экзамен, со вздохом, исполненным сентиментального воспоминания, — в нос: для себя самого.
— Гераклит полагал, будто вечность — младенец играющий.
— Темным его называли, — отрезал Пэпэш.
Синепапич, — вот шельма: ломал дурака?
А профессор очками блеснул:
— Диалектику мысль Гераклита ясна.
Но согласие экзаменатора с экзаменуемым в пику Пэпэшу — пощечина.
И Николай Николаич напучился в окна.
Там тень появилась из ниши: суровые, сине-лиловые ниши пред вечером; фоны фронтона — багровые.
Твердая морда из сумрака —
— в черные ночи —
— морочит.
Теория чисел
Бит экзаменатор, князь, — экзаменуемым!
— Шахматы, лучше заметить, — теория чисел «ин стату насценди» [90]…
— Теория чисел имеет историю? — бросил вопрос вперебив Синепапич.
Профессор, как конь боевой, отозвался:
— Начальный трактат по теории чисел написан Лежандром в средние столетия.
Встал:
— Восемнадцатого.
Распрямился.
Но вдруг перегляд Синепапича и Куланского; кивок Куланского, что — «так»; «настоящий экзамен» — прошлось в Серафиме Сергевне:
— Он выдержит ли?
— Извиняюсь, профессор, я — не специалист, — Синепапич опять вперебив и с какими-то тайными целями выставил нос из-под пуза Пэпэша, — как вы характеризовали б теорию чисел?
Он только что выбил теорию чисел историей чисел; теперь выбивал он историю чисел теорией; так он, вбивая вопросы в вопросы, сбивал; генетический «приус» — «постфактум» логический; сколькие сбивом таким заставляют ответчика глупо разыгрывать неисполнимую роль: коли ты о хвосте, — сади в голову; о голове — сади в хвост!
Узнаете себя, мои критики?
Явно гримаса Пэпэша означала: цель Синепапича бьет мимо цели; он выразил мимикою, что научная память больного, — одно, а больной — совершенно другое; так: знание математических принципов — не доказательство здравости; с неудовольствием видел: беседа свернула с дороги.
Профессор ответил:
— Теория чисел — теория групп числовых: она — царь математики.
Князь вильнул корпусом:
— Что, если свергнуть царя?
Что за глупость?
Профессор — небрежно, с достоинством, разоблачая намеренье князя: запутать.
— Не я выражаюсь так: Гаусс! [91]
Он жаловался Серафиме Сергевне пожатьем плечей и глазами:
— За что меня травят?
И взглядом во взгляд: точно ветер сквозь ветер прошелся; в нем вспыхнуло:
— Да, ты — еси!
Он стоял, как гвоздями, глазами припластанный к камню тюремному.
Точно снежинка, слетела ей в сердце; и — стала слезой: как жемчужина, павшая в чашу.
И екнуло в ней:
— Ты — еси!
И ее он почувствовал.
Тенью немою и белою на подоконнике полусидела, схватяся руками за край подоконника, чтобы слетать на предметы и их подавать по команде Пэпэша, который, увидевши здесь Плечепляткина, выпер его бросом носа:
— А вам-то тут — что?
Он, как деспот, желающий встретить схождением с трона почетных гостей, оставался нарочно без стула, вскарабкавшись над Синепапичем на край стола.
Препопанц распластался халатом на двери.
Нильс Абель [92]
— Мы — слушаем: Гаусс… Что Гаусс? — ввернул Синепапич, напомнив профессору, что он — с гостями, а не в безвоздушном пространстве.
Профессор, себя обретя, руку бросил, как кот, зарезвившийся с мышкою: с экзаменатором:
— Гаусс — создатель теории чисел комплексных, в которой рассмотрены свойства больших числовых совокупностей.
— Так, — прошептал Куланской, скрипнув стулом.
То шею вытягивал он: из-за князя; то — прятался вовсе: за князя.
Профессор докладывал князю:
— И Эйлер [93]работал в теории чисел; а мысли Лагранжа к теориям Эйлера нам упростили знакомство с теорией этой.
Искал разрезалку.
Движением из-за профессора —
— Вот разрезалка! —
— ему Серафима Сергевна: и — из-под руки, разрезалку искавшей, схватила ее; и — просунула в руку.
За каждым движеньем глазами следила, из них выливаяся: два колеса, — не глаза!
И улиткой под домиком, пузом, свернувшийся, тихо поник Синепапич, ликующий, что дал беседе уклон, вызывающий негодованье Пэпэша.
Князь взвешивал, не понимая:
— Пустые слова: Абель, Абель!
— Нильс Абель…
— Да, да, — не стерпел Куланской, перебивший профессора, — Нильс Генрих Абель, которого имя — скрижали науки, — он князю.
Профессор как бросится;
— Абелевы интегралы, — рукой к Куланскому, — и Абелевы уравнения, — кто их не знает?
Рукою ему Куланской:
— Доказательство Абеля не было понято, — он через голову.
И голова, князь, — отдернулась.
— Абель писал: пока степень простое число…
— Затруднения не представляется, — перебивал Куланской.
— Когда сложное, — перебивал Куланского профессор.
Но тот, перебивши профессора:
— Вмешивается…
— Сам дьявол, — пропели друг другу они, соглашаясь: носами, очками, руками.
И вспомнив, что тут же — профаны, носы повернули к профанам; и им разъясняли:
— Имея в виду, — разъяснял им профессор, — решение алгебраического…
— Ческого, — эхом пел Куланской.
— Уравнения…
— Енья, — вибрировало басовое, воздушное тремоло: эхо.
— Должны мы…
— Должны, — сомневался тремоло, не представляя себе, что «должны мы».
— Почтить Галуа [94], — уже кавалерийской атакой ударил профессор.
— Ну, что же — почтим, — согласились глаза Куланского.
— Его оценили Бертран и Долбня, — бомбардировал психиатрический фронт Куланской.
— В нем теория групп числовых — геометрия тела, вращаемого в многомерном пространстве.
Профессор на головы выдвинул «танки» свои из имен, никому не известных, из мыслей, которыми эти ученые люди не пользовались: Синепапич читал Гераклита, — не Абеля, а Николай Николаевич — ни Гераклита, ни Абеля.
Но параноика бледная маска за окнами шмыгала; встала в окне, замигавши глазами оранжевыми; и — язык показала; и — спряталась: под подоконник.
Профессор увидел ее; и — споткнулся.
— Труд Клейна…
Молчал.
— Какой труд? — раздалось из-под пуза.
И все, что дремало, — проснулось, понявши, что — сбился; так стая мышей: заскребется она, — зашуршит:
— Что?