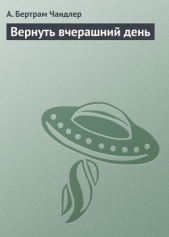Том 7. Мы и они

Том 7. Мы и они читать книгу онлайн
В 7-м томе впервые издающегося Собрания сочинений классика Серебряного века Зинаиды Гиппиус (1869–1945) публикуются ее книга «Литературный дневник» (1908) и малоизвестная публицистика 1899–1916 гг.: литературно-критические, мемуарные, политические статьи, очерки и рецензии, не входившие в книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поется – а потому так много декадентов в поэзии, в литературе и во всяком искусстве. Много подлинных, много и поддельных подражателей формы, недосказанностей и намеков. Но подражателей, фальсификаторов везде много. Всякая искренность может быть взята со вне, как мода.
Я говорю о правоте настоящих, так рожденных, декадентов, но, конечно, жаль мне и страшно, что они теперь, поддерживаемые и окруженные тьмой подражателей и фальсификаторов, так всецело завладели поэзией и литературой, что уже вся она как бы выпадает из общественности. Почти вся поэзия и литература, поскольку она декадентская, – вне движения, истории, человечества, вне борьбы между «мы» и «я»; ни она, эта литература, не имеет отношения к движению жизни и мысли, ни жизнь к ней. Я говорю про литературу – искусство, про ее уклон.
Как же это случилось? При всеобщей чепухе, смешении, соединении несоединимого, разъединении соединенного, при повсеместной извращенности понятий – ничему не надо удивляться. Говори что хочешь – все равно все слова опрокинуты вверх дном и катятся, – которое поймаешь, то и твое.
Личное борется как общее, общее как личное, каждый говорит не то, что хочет, и, наконец, не знает, чего он хочет.
Один только декадент имеет все, что хочет, – «поет на лугу». Никто его не слышит, но выходит так, что как будто он поет не один и не на лугу, как будто декадентство – литература… а ведь литература – общественна…
…В заключение, оглядываясь еще раз на всю трагическую и кровавую нелепость последнего времени, на раскалывающуюся пополам правду – на борьбу «общественников» (стадных) с индивидуалистами, на бесплодность борьбы тех и других, – в отдельности, – со всеми внешними условиями жизни, подлежащими уничтожению, – оглядываясь на все это «худо», о котором каркал Герцен, – мне хочется сказать, почему оно нам кажется таким «худым».
«Стадный» принцип общественности, ненавидящий (скрыто или явно) личность – приводит к «мещанской кристаллизации», по выражению Герцена. Остановившийся индивидуализм может привести к искусственному, более страшному, чем врожденное, декадентству. Но наше упование в том, что индивидуалист не останавливается в себе самом; расширяясь – он борется со старым соединением людей – во имя нового, такого, где он, при нераздельности с ними, – чувствовал бы и свою неслиянность. А пока – он хочет найти свою душу, чтобы было что отдать.
Герцен думал, что лишь близкие цели объединяют людей. Да, объединяют, соединяют, а по достижении их завтра – послезавтра что? – или новое разъединение, или мещанское, кристаллизованное благополучие. Бунтовщики-индивидуалисты, кажется, поняли, или хоть почуяли, что не «далекие цели – уловка» (так думал Герцен), – но именно близкие, и настоящим образом люди могут быть объединены даже не далекой целью, а лишь последней целью. Это первое и главное, необходимейшее ее условие, чтобы она была последней. И не только при ней не выбрасываются за борт, но исчезают «ближайшие цели», соединение в них, но, напротив, тогда-то сами собой они, как попутные, постоянно будут достигаться, сменяясь одна другой естественно и просто. Они сложатся сами, как сами сложились, в сказке Андерсена, упрямые льдинки в слово «Вечность», когда Кэй понял что-то высшее и далекое. А раньше он, еще непонимающий, напрасно старался складывать их своими замерзшими руками: ничего не выходило, все распадалось.
Если, действительно, есть уже люди, начинающие прозревать эту простую истину, которой не видел Герцен, правду объединения целью далекой, последней, если уже есть сознание этой правды в душах людей, живущих сейчас на земле, – не значит ли это, что правда уже на земле, уже коснулась земли? И может сойти на землю, может быть на ней?
Герцен видел черный темный коридор. Мы, в глубине его, видим белую точку. Что это такое? Выход? Как он далек! Не все ли равно? Лишь бы знать, что он есть. Не мы – выйдут другие.
Герцен сказал: «Ищите близких целей». И грустно думал при конце жизни: «Все-таки ничего не выйдет». Мы вспоминаем другие слова: ищите последнего царства, и остальное все приложится вам.
Мы будем искать и будем думать, даже при конце жизни, что – «выйдет».
Без мира *
1906
Мне думалось сначала написать о двух московских сборниках, вышедших почти одновременно: «Свободная Совесть» (вып. II) и «Вопросы религии». Но я, кажется, напишу только о втором. И во втором-то многое мне непонятно; самый же смысл существования первого, «Свободной Совести», – его живое лицо, – окончательно от меня ускользает. Пришлось бы утверждать, что ни смысла, ни живого лица у этого сборника нет; а я этого не хочу. Я знаю многих участников его, как людей талантливых и значительных; если данные их статьи и не из лучших – то это еще ничего не значит. Я смысла соединения их, в одной тяжелой книжке под одной серой обложкой «Свободной Совести» не понимаю, – и лучше не буду никого судить, оставляя это на совести участников. Может быть, С. Соловьев и А. Белый знают, где и чем их произведения связаны с длинной дамской повестью о храбром генерале, любящем розы, о его героической дочери, защищавшей крепость во время усмирения Кавказа и поддержавшей честь полка; я этой связи не вижу и лгать не хочу, что вижу. Не вижу в «сборнике», в его факте – никакого «дела», ничего «общего». Оттого и не могу ничего писать.
«Вопросы религии»… это прежде всего действительно сборник, собрание людей, связанных между собой одной нитью. Если не одним пониманием (это мы сейчас увидим, одним ли пониманием они связаны), – то, во всяком случае, одним… словом. Слово это – христианство. В кратком предисловии сборника сказано, что «отдельные статьи внутренно будут объединяться общностью христианского мировоззрения». И добавлено: «но, при этом, авторам предоставляется полная свобода для выражения индивидуальных мнений и даже разногласий по вопросам второстепенной важности». Общность «христианского» (то есть одного и очень определенного) мировоззрения (то есть миропонимания, всепонимания) – вот чем связаны участники сборника, как они думают.
Действительно, при такой крепкой связи, такой всеохватывающей общности, не страшны частные, личные разногласия. Но что называют участники сборника вопросами второстепенной важности? Вопросы о насилии, об аскетизме, об устроении общественной жизни, ее идеале и завтрашней практике по пути устремления к идеалу – что это, важные или неважные вопросы? Должны ли они решаться, или хоть ставиться, не разногласно у людей одного и того же миропонимания? Или они столь второстепенны, а круг «христианского миропонимания» так узок, что вопросы эти, естественно, решаются индивидуально, каждый по-своему, за чертой?
Нет, конечно, нет. Авторы сборника «Вопросы религии» – люди глубокие, талантливые и – это главное! – искренние. Они искренно убеждены, что вопросы эти не второстепенны. Они искренно верят, что объединены для решения вопросов христианством и что христианство есть известное понимание мира. Они это говорят – и я верю, что они так верят. Верю в веру – но не в факт. Потому что если б объединяло их не слово «христианство», а одно и то же миропонимание, один и тот же взор на жизнь и мир, одно и то же его ощущение и восприятие, – не было бы в сборнике таких одиноких, одиноко мучающихся людей, ставящих самые важные, самые глубокие человеческие вопросы и одиноко, различно, по-христиански – но по-своему, только по-своему, их разрешающие.
Книга начинается статьей В. Свенцицкого: «Христианские отношения к власти и насилию», а кончается Булгаковым: «Церковь и социальный вопрос». Весь сборник посвящен отношению христианства к общественности; слишком ясно, что для авторов это не второстепенное нечто, а самое главное, самое важное; тут-то и жаждут они единодействия, веря в свое единомыслие. Булгаков последнее время пишет почти исключительно о созидании устоев для «христианской общественности». Он верит в нее мягко, трепетно, оптимистически, нежно, любовно; ему кажется, что вот-вот, еще немного, – и она уже тут, уже все есть. Он почти прав, потому что в своей, очень христианской, мягкости ему немного и нужно. Церковь христианская, в частности, православная, истинная во всем и вечная, – в данный момент истории еще чего-то не поняла, еще держится, внешними своими проявлениями, за самодержавие, – но она поймет, вот сейчас поймет, и все будет хорошо. И добрые, прогрессивные священники будут служить в храмах, – окруженных «внешним двором» – миром, «христианской» мирной жизнью, государством, – конечно, самым тоже «христианским», на социальных началах. Это будущее христианское устройство Булгаков представляет себе непременно с «внешним двором», много раз настаивает на «внешнем дворе». Выражение он взял «от писаний»: он любит тексты, особенно из апостолов, но на этот раз он взял Апокалипсис. И неудачно. Ибо там говорится: «…а внешний двор храма исключи и не измеряй его; ибо он дан язычникам: они будут попирать святой город сорок два месяца».