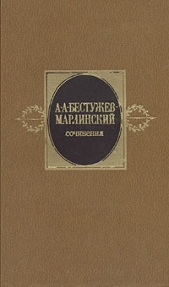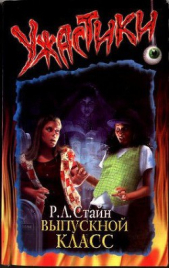Том 16. Избранные публицистические статьи

Том 16. Избранные публицистические статьи читать книгу онлайн
В томе печатаются избранные публицистические статьи Л. Н. Толстого 1855–1886 гг.: «Прогресс и определение образования», «О переписи в Москве», «Исповедь», трактат «Так что же нам делать?» и др., а также несколько незавершенных статей.
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ведь этот вопрос был поставлен с тех пор, как люди есть; и с тех пор, как люди есть, понято, что для решения этого вопроса одинаково недостаточно приравнивать конечное к конечному и бесконечное к бесконечному, и с тех пор, как люди есть, отысканы отношения конечного к бесконечному и выражены.
Все эти понятия, при которых приравнивается конечное к бесконечному и получается смысл жизни, понятия бога, свободы, добра, мы подвергаем логическому исследованию. И эти понятия не выдерживают критики разума.
Если бы не было так ужасно, было бы смешно, с какой гордостью и самодовольством мы, как дети, разбираем часы, вынимаем пружину, делаем из нее игрушку и потом удивляемся, что часы перестают идти.
Нужно и дорого разрешение противоречия конечного с бесконечным и ответ на вопрос жизни такой, при котором возможна жизнь. И это единственное разрешение, которое мы находим везде, всегда и у всех народов, — разрешение, вынесенное из времени, в котором теряется для нас жизнь людей, разрешение столь трудное, что мы ничего подобного сделать не можем, — это-то разрешение мы легкомысленно разрушаем с тем, чтобы поставить опять тот вопрос, который присущ всякому и на который у нас нет ответа.
Понятия бесконечного бога, божественности души, связи дел людских с богом, понятия нравственного добра и зла — суть понятия, выработанные в скрывающейся от наших глаз исторической дали жизни человечества, суть те понятия, без которых не было бы жизни и меня самого, а я, откинув всю эту работу всего человечества, хочу все сам один сделать по-новому и по-своему.
Я не так думал тогда, но зародыши этих мыслей уже были во мне. Я понимал, 1) что мое положение с Шопенгауэром и Соломоном, несмотря на нашу мудрость, глупо: мы понимаем, что жизнь есть зло, и все-таки живем. Это явно глупо, потому что, если жизнь глупа, — а я так люблю все разумное, — то надо уничтожить жизнь, и некому будет отрицать ее. 2) Я понимал, что все наши рассуждения вертятся в заколдованном круге, как колесо, не цепляющееся за шестерню. Сколько бы и как бы хорошо мы ни рассуждали, мы не можем получить ответа на вопрос, и всегда будет 0 = 0, и что потому путь наш, вероятно, ошибочен. 3) Я начинал понимать, что в ответах, даваемых верою, хранится глубочайшая мудрость человечества, и что я не имел права отрицать их на основании разума, и что, главное, ответы эти одни отвечают на вопрос жизни.
X
Я понимал это, но от этого мне было не легче.
Я готов был принять теперь всякую веру, только бы она не требовала от меня прямого отрицания разума, которое было бы ложью. И я изучал и буддизм, и магометанство по книгам, и более всего христианство и по книгам, и по живым людям, окружавшим меня.
Я, естественно, обратился прежде всего к верующим людям моего круга, к людям ученым, к православным богословам, к монахам-старцам, к православным богословам нового оттенка и даже к так называемым новым христианам, исповедующим спасение верою в искупление. И я ухватывался за этих верующих и допрашивал их о том, как они верят и в чем видят смысл жизни. Несмотря на то, что я делал всевозможные уступки, избегал всяких споров, я не мог принять веры этих людей, — я видел, что то, что выдавали они за веру, было не объяснение, а затемнение смысла жизни, и что сами они утверждали свою веру не для того, чтоб ответить на тот вопрос жизни, который привел меня к вере, а для каких-то других, чуждых мне целей.
Помню мучительное чувство ужаса возвращения к прежнему отчаянию после надежды, которое я испытывал много и много раз в сношениях с этими людьми. Чем больше, подробнее они излагали мне свои вероучения, тем яснее я видел их заблуждение и потерю моей надежды найти в их вере объяснение смысла жизни.
Не то, что в изложении своего вероучения они примешивали к всегда бывшим мне близкими христианским истинам еще много ненужных и неразумных вещей, — не это оттолкнуло меня; но меня оттолкнуло то, что жизнь этих людей была та же, как и моя, с тою только разницей, что она не соответствовала тем самым началам, которые они излагали в своем вероучении. Я ясно чувствовал, что они обманывают себя и что у них, так же как у меня, нет другого смысла жизни, как того, чтобы жить, пока живется, и брать все, что может взять рука. Я видел это по тому, что если б у них был тот смысл, при котором уничтожается страх лишений, страданий и смерти, то они бы не боялись их. А они, эти верующие нашего круга, точно так же, как и я, жили в избытке, старались увеличить или сохранить его, боялись лишений, страданий, смерти, и так же, как я и все мы, неверующие, жили, удовлетворяя похотям, жили так же дурно, если не хуже, чем неверующие.
Никакие рассуждения не могли убедить меня в истинности их веры. Только действия такие, которые бы показывали, что у них есть смысл жизни такой, при котором страшные мне нищета, болезнь, смерть не страшны им, могли бы убедить меня. А таких действий я не видел между этими разнообразными верующими нашего круга. Я видал такие действия, напротив, между людьми нашего круга самыми неверующими, но никогда между так называемыми верующими нашего круга.
И я понял, что вера этих людей — не та вера, которой я искал, что их вера не есть вера, а только одно из эпикурейских утешений в жизни. Я понял, что эта вера годится может быть, хоть не для утешения, а для некоторого рассеяния раскаивающемуся Соломону на смертном одре, но она не может годиться для огромного большинства человечества, которое призвано не потешаться, пользуясь трудами других, а творить жизнь. Для того чтобы все человечество могло жить, для того чтоб оно продолжало жизнь, придавая ей смысл, у них, у этих миллиардов, должно быть другое, настоящее знание веры. Ведь не то, что мы с Соломоном и Шопенгауэром не убили себя, не это убедило меня в существовании веры, а то, что жили эти миллиарды и живут и нас с Соломонами вынесли на своих волнах жизни.
И я стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, с странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вероучение этих людей из народа было тоже христианское, как вероучение мнимо-верующих из нашего круга. К истинам христианским примешано было тоже очень много суеверий, но разница была в том, что суеверия верующих нашего круга были совсем ненужны им, не вязались с их жизнью, были только своего рода эпикурейскою потехой; суеверия же верующих из трудового народа были до такой степени связаны с их жизнью, что нельзя было себе представить их жизни без этих суеверий, — они были необходимым условием этой жизни. Вся жизнь верующих нашего круга была противоречием их вере, а вся жизнь людей верующих и трудящихся была подтверждением того смысла жизни, который давало знание веры. И я стал вглядываться в жизнь и верования этих людей, и чем больше я вглядывался, тем больше убеждался, что у них есть настоящая вера, что вера их необходима для них и одна дает им смысл и возможность жизни. В противуположность того, что я видел в нашем кругу, где возможна жизнь без веры и где из тысячи едва ли один признает себя верующим, в их среде едва ли один неверующий на тысячи. В противуположность того, что я видел в нашем кругу, где вся жизнь проходит в праздности, потехах и недовольстве жизнью, я видел, что вся жизнь этих людей проходила в тяжелом труде и они были менее недовольны жизнью, чем богатые. В противуположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишения и страдания, эти люди принимали болезни и горести без всякого недоумения, противления, а с спокойной и твердою уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что все это — добро. В противуположность тому, что чем мы умнее, тем менее понимаем смысл жизни и видим какую-то злую насмешку в том, что мы страдаем и умираем, эти люди живут, страдают и приближаются к смерти с спокойствием, чаще же всего с радостью. В противуположность тому, что спокойная смерть, смерть без ужаса и отчаяния, есть самое редкое исключение в нашем круге, смерть неспокойная, непокорная и нерадостная есть самое редкое исключение среди народа. И таких людей, лишенных всего того, что для нас с Соломоном есть единственное благо жизни, и испытывающих при этом величайшее счастье, — многое множество. Я оглянулся шире вокруг себя. Я вгляделся в жизнь прошедших и современных огромных масс людей. И я видел таких, понявших смысл жизни, умеющих жить и умирать, не двух, трех, десять, а сотни, тысячи, миллионы. И все они, бесконечно различные по своему нраву, уму, образованию, положению, все одинаково и совершенно противуположно моему неведению знали смысл жизни и смерти, спокойно трудились, переносили лишения и страдания, жили и умирали, видя в этом не суету, а добро.