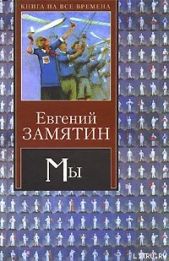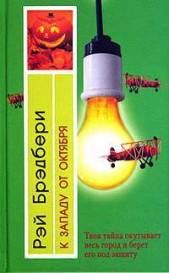Том 2. Русь

Том 2. Русь читать книгу онлайн
Во второй том Собрания сочинений Е.И. Замятина включены все прозаические произведения писателя, созданные им на родине и за рубежом после 1921 года, в том числе знаменитая антиутопия «Мы». Исторический роман «Бич Божий» впервые печатается с учетом авторских исправлений в рукописи. Впервые в России публикуются биографические очерки «Роберт Майер» и «А.П. Чехов», выходившие в Германии в 1921 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она подошла к этому дому как-то вечером в декабре. Как всегда, она торопилась пройти поскорее, не глядя. На лету, утлом одного глаза, как видят птицы, она увидала в пустом окне свет. Она остановилась: не может быть! Вернулась назад, заглянула в дыру окна. Внутри, среди обломков кирпича, горел костер, вокруг него сидело четверо отрепышей-мальчишек. Один, лицом к Софье, черноглазый, должно быть, цыганенок, приплясывал, на голой груди у него прыгал серебряный крестик, зубы блестели.
Пустой дом стал живым. Цыганенок чем-то походил на Трофима Иваныча. Софья вдруг почувствовала, что она тоже еще живая, и еще все может перемениться.
Взволнованная, она вошла в церковь напротив. Она не была здесь с девятьсот восемнадцатого, когда Трофим Иваныч вместе с другими заводскими уходил на фронт. Служил все тот же маленький, обомшелый, седой попик. От пения становилось тепло, лед таял, какая-то зима проходила, впереди в темноте зажигали свечи.
Когда Софья вернулась домой, захотелось обо всем рассказать Трофиму Иванычу, но о чем же это — обо всем? Она сейчас уже и сама не знала, и сказала только одно: что была в церкви. Трофим Иваныч засмеялся:
«В старую церковь ходишь. Хоть бы к живоцерковцам ходила, у этих Бог все-таки вроде с партийным билетом». Он подмигнул Ганьке. С прищуренным глазом, без бороды — лицо у него было озорное, как у цыганенка, очень много зубов, веселых, жадных. Ганька сидела румяная, она прятала глаза и только исподлобья, зеленовато, чуть покосилась на Софью.
С этого дня Софья часто бывала в церкви, пока однажды к обедне не явился новый живоцерковный поп с толпой своих.
Живоцерковец был рыжий верзила в куцей рясе, будто переодетый солдат. Старый седой попик закричал: «Не дам, не дам!» — и вцепился в него, оба покатились на паперть, над толпою, как знамена, замелькали чьи-то кулаки. Софья ушла и больше не возвращалась сюда. Она стала ездить на Охту, там сапожник Федор — с желтой лысиной — проповедовал «третий завет».
Весна в этом, году была поздняя, на Духов день деревья еще только начинали распускаться, почки на них дрожали незаметной для глава дрожью, и лопались. Вечером было непрочно, светло, металась ласточки, Сапожник Федор проповедовав о скором Страшном Суде. По желтой лысине у него катились крупные капли пота, синие безумные глаза блестели так, что от них нельзя было оторваться. «Не с неба, нет! А отсюда, вот отсюда, вот отсюда!» — весь дрожа, сапожник ударяя себя в грудь, рванул на вей белую рубаху, показалось желтое смятое тело. Он вцепился разодрать грудь как рубаху — ему нечем было дышать, крикнул отчаянным, последним голосом в хлопнулся об пол в падучей. Около него остались две женщины, все быстро разошлись, не кончив собрания.
От безумных сапожниковых глаз вся напряженная, как почки на деревьях, Софья вернулась к себе. Ключа снаружи не было, дверь была заперта. Софья доняла: Трофим Иваныч с Ганькой ушли куда-нибудь погулять и, наверное, придут домой только часов в одиннадцать — она сама сказала им, чтобы раньше одиннадцати ее не ждали. Пойти разве наверх и посидеть там, пока она не вернутся?
Наверху жила теперь Пелагея с мужем, извозчиком. Через открытое окно было слышно, как она говорит своему ребенку: «Агу-агу-агу-нюшки. Вот так, вот так!» Нельзя, не было сил сейчас пойти туда и смотреть на нее, на ребенка. Софья села на деревянные ступени. Солнце было еще высоко, небо блестело как глаза у сапожника. Откуда-то запахло горячим черным хлебом. Софья вспомнила: в окне на кухне шпингалет сломан, и, наверное, Ганька забыла привязать окно — всегда забывала. Значит, можно вскрыть снаружи и влезть.
Софья обошла кругом. И правда, окно не было привязано, Софья легко открыла его и влезла в кухню. Она подумала: так мало ли кто может забраться — а может, уж и забрался? Показалось, в соседней комнате какай-то шорох. Софья, остановилась. Было тихо, только тикали часы на стенке, и внутри в Софье, и всюду. Сама не зная зачем, на цыпочках, Софья вошла. Платьем она зацепила прислоненную к двери гладильную доску, доска загремела на пол. Тотчас же в комнате зашлепали босые ноги. Софья тихонько ахнула, попятилась к окну — выскочить — звать на помощь…
Но она ничего не успела; в дверях, показалась Ганька, босая, в одной измятой розовой сорочке. Ганька остолбенела, кругло раскрыла на Софью рот, глаза. Потом вся сжалась, как кошка, когда на нее замахнутся, крикнула: «Трофим Иваныч!» и метнулась назад, в комнату.
Софья подняла гладильную доску, поставил ее на место и села. У нее ничего было, ни рук, ни ног — только одно сердце, и оно, кувыркалось птицей, падало, падало, падало.
Потом тотчас же вошел Трофим Иваныч. Он был одетый, видно — не раздевался. Он встал посредине кухни большеголовый, широкий, ноги короткие — будто был вкопан по колени в землю. «Ты… ты как же это рано вернулась нынче?» — сказал Трофим Иваныч и сам удивился: зачем он это сказал, как он мог это сказать? Софья не слышала. Губы у нее дергались, так дергается пленка на молоке, уже совсем застывшая: «Что ж это, что ж это, что ж это?» — с трудом выговорила Софья, не глядя на Трофима Иваныча. Трофим Иваныч весь сморщился, забился в какой-то угол внутри себя, так молча стоял минуту. Потом с корнем выдернул свои ноги из земли и ушел в комнату. Там Ганька уже постукивала полусапожками, одетая.
Все в мире шло по-прежнему, и надо было жить. Софья собрала ужинать. Тарелки, как всегда, подавала Ганька. Когда она принесла хлеб, Трофим Иваныч обернулся, задел головой, хлеб упал к нему на колени. Ганька захохотала. Софья посмотрела на нее, обе они столкнулись глазами, и мгновение совсем по-новому, чем раньше, вглядывались одна в другую. Софья почувствовала, как в ней кругло, медленно поднималось от живота снизу, потом все горячее, быстрее, выше, она задышала часто. Больше невозможно было смотреть на Ганькину русую челку, на черную родинку у нее на губе — нужно было сейчас же закричать, как сапожник Федор, или что-то сделать. Софья опустила глаза. Ганька усмехнулась.
После ужина Софья мыла тарелки, Ганька стояла с полотенцем и вытирала. Это было без конца. Это было, может быть, самое трудное за вечер. Потом Ганька пошла спать к себе на кухню. Софья стала делать постель, внутри все горело, ее трясло. Трофим Иваныч, отвернувшись, сказал ей: «Постели мне у окна на лавке». Софья постлала. Она слышала, как ночью, когда она перестала ворочаться, Трофим Иваныч встал и пошел на кухню к Ганьке.
На подоконнике у Софьи стояла опрокинутая вверх дном стеклянная банка; под эту банку, неизвестно как, попала муха. Уйти ей было некуда, но она все-таки ползала весь день. От солнца под банкой была равнодушная, медленная, глухая жара, и такая же жара была на всем Васильевском Острове. Все-таки весь день Софья ходила, что-то делала. Днем часто собирались тучи, тяжелели, вот-вот треснет над головой зеленое стекло и наконец прорвется, хлынет ливень. Но тучи неслышно расползались, к ночи стекло становилось все толще, душнее, глуше. Никто не слышал, как ночью по-разному дышали трое: одна — зарывшись в подушку, чтобы ничего не слышать, двое — сквозь стиснутые зубы, жадно, жарко, как котельная форсунка.
Утром Трофим Иваныч уходил на завод. Ганька уже кончила учиться, она оставалась с Софьей вдвоем. Она была очень далека от Софьи: и Ганьку, и Трофима Иваныча, и все кругом Софья видела и слышала теперь откуда-то издали. Оттуда она говорила Ганьке, не разжимая губ: подмети кухню, вымой пшено, наколи щепок. Ганька мела, мыла, колола. Софья слышала удары топора, знала, что это — Ганька, та самая, но это было очень далеко, не было видно.
Ганька всегда колола щепки, присев на корточки, широко раздвинув круглые колени. Один раз, неизвестно почему, случилось так, что Софья увидела эти колени, чуть подвинутую русую челку на лбу. В висках у нее застучало, она поспешно отвернулась и сказала Ганьке, не глядя:
«Я сама… Поди на улицу». Ганька, тряхнув челкой, весело убежала и вернулась домой только к обеду, перед самым приходом Трофима Иваныча.