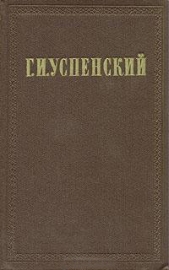Том 5. Крестьянин и крестьянский труд
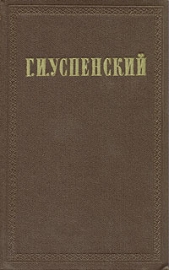
Том 5. Крестьянин и крестьянский труд читать книгу онлайн
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.
В пятый том вошли очерки «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли», «Из разговоров с приятелями», «Пришло на память», «Бог грехам терпит», «Из деревенских заметок о волостном суде» и рассказ «Не случись».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Трудна, неприятна и утомительна эта черная литературная работа, а делать нечего, надобно работать. Мы вот всё твердим: «сила», «дух, дух, дух», «она самая, которая», которая чудесным образом сберегла, сохранила и т. д., а что это такое — не знаем, и может случиться, как это и случилось, что сила таинственная и чудесная, сохраняющая неприкосновенность человека под палками и кнутами, вдруг не сохранит его под ударом рубля. Ведь вот все вытерпел народ — и татарщину и неметчину, а стал его жид донимать рублем — не вытерпел! Ну как что-нибудь еще случится непредвиденное? Почем знать?.. А ведь если все твердить: «та, которая», так ведь ровно ничего нельзя ни знать, ни предвидеть. Вот поэтому-то, несмотря на огорчения читателей и критиков, желающих «десерта», мы и решаемся спуститься к самым недрам и корням народной жизни… И здесь, после миллиона недоумений, миллиона ошибок, терзаний, мы, наконец, радостно видим, что кое-что из этой тайны неуязвимости открылось нам.
Оказывается, что «сила», которая сохраняет человека под кнутом и палкой, которая сохраняет у него, несмотря на гнет крепостного права, открытое, живое лицо, живой ум и т. д., получается в этом человеке непосредственноот указаний и велений природы,с которою человек этот имеет дело непрестанно, благодаря тому что живет особенным, разносторонним, умным и благородным трудом земледельческим. Оказывается, что не только наш крестьянин-земледелец, но решительно крестьянин-земледелец всех стран, всех наций, всех народов точно так же неуязвим во всевозможных внешних несчастиях, как неуязвим и наш, раз только он почерпает свою мораль от природы, раз только строит свою жизнь по ее указаниям, раз только повинуется ей в радостях и несчастиях, то есть раз только он — земледелец, так как нет такого труда, который бы так всецело и непосредственно, и притом каждую минуту и во всем ежедневном обиходе зависел от природы, как труд, земледельческий. Припомните, чего-чего ни перенесли французы, итальянцы, турки, славяне, немцы и т. д.; но если мы дадим себе труд разыскать в землях, населенных этими народами, то, что называется нетронутою цивилизацией, деревней, так мы непременно найдем то же самое миросозерцание, что и у нашего крестьянина, конечно видоизмененное по внешнему выражению, сообразно климату, темпераменту, породе и т. д. Но решительно везде, точно так, как и в нашей деревне,мы не найдем никаких следоввоспоминаний о каких бы то ни было гнетах и бедствиях. Наш крестьянин сохранил открытое лицо и живой ум, несмотря на татарское иго, шпицрутены и крепостное право. А французский настоящий нормандский или бретонский мужик сохранил разве воспоминание о нашествии римлян, о нашествии варваров, о бесчисленных войнах и драках, в которых погибли миллионы его предков? Итальянский пахарь наверное не помнит всей(!) римской истории, точно ее и не бывало. А сколько перерезано турок, и что же? — Лицо у них улыбающееся и к мордобитию расположенное во всякое время. Во время сербской войны с поезда русских добровольцев на одной из австрийских железных дорог свалился в пьяном виде русский крестьянин-доброволец. Поезд ушел, а крестьянин, очнувшись, увидел себя в какой-то мадьярской деревне. Через две недели, однако, он с другим поездом добровольцев добрался до Пешта и рассказывал о своем приключении. «Что же ты делал эти две недели?» — спрашивали его. «Что делал!.. Как есть нечего, — найдешь работу!» — «Что же ты работал?» — «Да все: дрова колол, воду возил — все, что по крестьянству следует». — «Но ведь ты не знаешь ни слова по-мадьярски, как же ты разговаривал?» — «Да чего мне разговаривать-то? Дадут в руки топор да подведут к дровам, так я и без разговоров знаю, что мне топором не щи хлебать, а дрова рубить. Разговаривать!.. Поставят к лошади с плугом, само собойи видно, что надо пахать, а не в карты играть или, например, кофий пить»… Такое родство в воззрениях земледельцев всех стран, мы уверены, вполне существует.
Эту неизменность основных черт земледельческого типа накладывает на крестьян всех стран света неизменность законов природы, которые, как известно, также «устояли», несмотря на то, что в Риме были Нероны и Калигулы, а у нас — злые татарчонки, Бироны, кнуты, шпицрутены. Неизменно, на том же самом месте, как тысячи тысяч лет назад, так и теперь, стояло солнце; как и теперь, оно заходило и восходило в тот же самый день и час, как и в «бесконечные веки»; могли сменяться тысячи поколений тиранов, всяких людей, нашествий, но тот человек, которого труд и жизнь обязывали быть в зависимости от солнца, должен был оставаться неизменным, как неизменным оставалось оно. Возьмите нашего крестьянина из любой земледельческой деревни: он находится и сейчас точь-в-точьв таких же условиях жизни и под теми же самыми влияниями, как и тот скиф, портрет которого вы можете видеть в книге Вайца и который буквально точь-в-точь похож на нашего «мужика»: тот же самый камень обходит сохой и теперешний мужик, какой обходил сохой скиф, и как древнейший предок теперешнего мужика, обходя камень, говорил: «ишь, идол, разлегся на самой дороге, возись тут около него», — так и теперешний мужик, поровнявшись с камнем, не преминет вымолвить: «и нелегкая же тебя повалила на это место, неладная дубина!..» Река, солнце, месяц, весна, осень, трава, деревья, цветы — все до последней мелочи природы было точь-в-точьто же самое, что и в «бесконечные веки». Этобыло неизменное. От этогозависела жизнь, в этом— тайна миросозерцания. Этоможно назвать и указать пальцем.
В строе жизни, повинующейся законам природы, несомненна и особенно пленительна та правда(не справедливость),которою освещена в ней самая ничтожнейшая жизненная подробность. Тут все делается, думается так, что даже нельзя себе представить, как могло бы делаться иначе при тех же условиях. Лжи, в смысле выдумки, хитрости, здесь нет, — не перехитришь ни земли, ни ветра, ни солнца, ни дождя, — а стало быть, нет ее и во всем жизненном обиходе. В этом отсутствии лжи, проникающем собою все, даже, по-видимому, жестокие явления народной жизни, и есть то наше русское счастье и есть основание той веры в себя, о которой говорит Герцен. У нас миллионные массы народа живут, не зная лжи в своих взаимных отношениях, — вот на чем держится наша вера. Впоследствии мы постараемся рассказать несколько самых, по-видимому, возмутительных жестокостей в народной жизни, и все они, с точки зрения миросозерцания, воспитанного неизменными законами природы, окажутся неизбежными, а люди, совершившие их, чистыми сердцем, как голуби.
Но хоть в природе и все — правда, но не все в ней ласково. Посмотрите-ка, какой веселый лес на горе, какие там веселые «птичек хоры» или какой он молчаливый и торжественный ночью, а между тем в то время, когда он молчит, и в то время, когда он весь поет и зеленеет, какое идет в нем поедание друг друга! Вы не услышите ничего, кроме едва-едва приметного писка то там, то сям. Кто-то кого-то ест, а потом, веселый и довольный, «с светлым лицом» и губами, на которых не заметно крови, идет в свое семейство… Лес не помнит своих прародителей, которые в первый раз были срублены во время татарского ига, а второй раз во времена «немецкой бюрократии», и прет из их сгнивших корней свежими стволами — прет потому, что слушает солнца, нельзя ему не выпирать, коли оно его тянет, и некогда вспоминать прародителей. Не вспоминает и этот волк съеденной овцы и не виноват, конечно, в этом; да и сыч этот, съевший яйца в чужом гнезде, тоже только облизывается и хвалит творца. Все поедает друг друга каждую минуту, и все каждую минуту родится вновь… Родится, цветет, поет, только писк-то вот этот, который по временам слышится кое-где, вот он-то очень неприятен и щемит то заячье, то овечье, то птичье сердце. А в человеческом обществе, поставленном к природе в слишком неразрывную зависимость и не имеющем возможности жить иначе, как по тем же самым законам, как живет вышеизображенный лес, этот писк и вопль человеческого существа ужасен и жалок необыкновенно, потому что тут жестокое друг над другом совершают люди, а не звери, не бессловесные животные. Повторяем, и в этих жестокостях неизбежная правда: заедят непременно слабого, заедят не зря,а непременно вследствие множества неотвратимых резонов, — заедят, и все будут невинны; но и сердце, которое содрогается от этого человеческого писка, частенько переходящего в стоны, также содрогается не без основания. Любители охоты говорят, что собаки, обладающие особенно развитым чутьем, никогда не бегают по следам дичи, а бегут в стороне. Происходит это от того, что запах дичи на следу так сильно бьет собаку в нос, что она теряет обоняние, не слышит запаха дичи, тогда как со стороны, сбоку следа, запах дичи она слышит отлично. Вот также и насчет сердца человеческого: один дерет с другого шкуру — и не чувствует; ему довольно знать, что нельзя иначе… А другой, и издали глядя на это зрелище, не только сам ощущает боль сдираемой кожи, не только чувствует страдание обдираемого человека, но имеет даже дерзость считать этот неизбежный акт возмутительным и жестоким, имеет даже дерзость закричать издали: «что вы делаете, проклятые!» — хоть и знает, что они не виноваты.