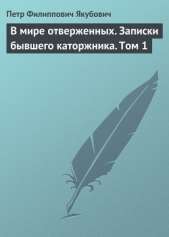В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
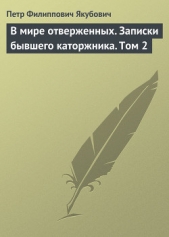
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2 читать книгу онлайн
«…Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы. Существовал и другой также закон, в силу которого человек, «забритый» в солдаты, становился уже мертвым человеком, в редких только случаях возвращавшимся к прежней свободной жизни (николаевская служба продолжалась четверть века), и не мудрено, что, по словам поэта, «ужас народа при слове набор подобен был ужасу казни»…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Прощайте, братцы, увозят! — послышался оттуда его торжественно шипевший голос. — Увозят… И что будет — неизвестно… нашлись такие друзья — погубили!
Я с любопытством присел на лавку, ожидая, не скажет ли он и мне чего-нибудь на прощанье. По-прежнему громко лязгая кандалами, Шматов вышел в коридор и, сняв шапку, низко поклонился мне по-актерски.
— Прощай и ты, Миколаич, — прогнусил он, саркастически оскаливая гнилые зубы, — прощай! Спасибо, что в кандалы заковал… Тебе обязан!
Признаюсь, такой грубой, искренне-злостной клеветы, брошенной прямо в лицо, я не ожидал даже и от Шматова. Но прежде чем, придя в себя от удивления, успел я произнести хоть одно слово в ответ, Гнус уже вышел вон торжественно замедленными шагами, заложив руки за спину.
Вслед за этим в дверь просунул голову Тропин. Ему, очевидно, не с кем было прощаться; и он показался для того только, чтобы крикнуть во всю глотку Стрельбицкому:
— Ты чего ж тут копаешься? Скорее, леший!
Он окинул меня беглым нелюбопытным взглядом и, не удостоив. ни одним словом, скрылся. Да и что ему было говорить? Своего он добился, а до всего остального в мире, до лжи и правды, атому человеку, не имевшему ровно ничего за душой, не было ни малейшего дела…
Стрельбицкий вышел из палаты и, тоже ничего не сказав мне на прощанье, поспешил прямо к воротам. Я глядел в окно. Там стояли уже под дождем, в ожидании, Азиадинов, Тропин и Шматов. Быстрой, легкой походкой, ухарски заломив набок круглую арестантскую шапочку, шел к ним из тюрьмы Юхорев, вскинув на плечо свой мешок с вещами. В больницу он не зашел. Замок щелкнул — ворота распахнулись настежь, приняли в свою пасть пятерых друзей и снова громко захлопнулись. На новую жизнь! Не пожалеют ли когда-нибудь эти люди и о Шелайской тюрьме, не вспомнят ли с сочувствием о тех, кого теперь, уходя, пытались оплевать и закидать грязью?..
Башуров и Штейнгарт явились ко мне с тюремными новостями.
— Ну что, Иван Николаевич, заходили к вам прощаться?
Я рассказал о сцене, устроенной мне Гнусом.
— Ну, значит, точь-в-точь та же песня, которую и мы слышали, — с горечью рассмеялся Штейнгарт. — К нам Шматов и Юхорев вместе зашли. Первый шипел что-то не совсем вразумительное, кого-то в чем-то упрекал, кого-то прощал, то и дело прерывая Юхорева, который, по обыкновению, прикрикнул наконец: «Замолчи, Гнус, не дури!» Сам он держался с обычной важностью и с первых же слов заявил, что против нас двоих никакой злобы не уносит, одного только Ивана Николаевича считает врагом. «Как вам, Юхорев, не стыдно говорить такие вещи? — воскликнул я. — Иван Николаевич прожил столько лет в тюрьме, и все видели от него одно только доброе». — «Быть может, другие, но никак не я! Мне он враг, и я когда-нибудь сумею ему отплатить». — «Он нас в кандалы заковал!» — прошипел опять Гнус. Я обратился к Юхореву: «Неужели вы верите в такую нелепость? Ну, Шматов по глупости, а вы-то?..» Он сделал решительный жест рукою: «Не будем спорить, Дмитрий Петрович; у каждого человека свои взгляды… Итак, господа, прощайте, спасибо за вашу хлеб-соль. Валерьян, не поминай лихом!» Но мы отказались подать ему руку: «Если вы думаете так дурно о нашем товарище, которого мы уважаем, так по-доброму и мы не можем расстаться с вами». Тогда Юхорев гордо выпрямился, подумал немного и, поклонившись слегка, торопливо вышел. А за ним побежал и его верный оруженосец, продолжая что-то гнусавить.
— И откуда берется такая гордость, такой язык у чистокровной, в сущности, шпаны! — загорячился Валерьян. — Вот, Иван Николаевич, плоды вашего многолетнего нежничанья с ними.
Но Штейнгарт сурово остановил его:
— Вспомни, Валерьян, свое собственное амикошонство с Юхоревым…
Башуров густо покраснел и, замолчав на некоторое время, по обыкновению надулся.
Грустное настроение овладело мною, когда товарищи ушли в тюрьму, оставив меня одного. Мысленно перебирал я свои тюремные воспоминания, год за годом, месяц за месяцем стараясь отыскать там свои ошибки, промахи, вины против посланных судьбой сотоварищей, подобрать ключ к правильному пониманию их простой и вместе загадочной психологии, на почве которой создались между нами сначала недоразумения, а затем и вражда. Я думаю… И история этих мелких тюремных бурь наводила меня на мысль о более широких аналогиях и картинах: не возможны ли подобные же (только несравненно более грустные по своим огромным размерам и важным последствиям) конфликты и на воле между интеллигентными людьми и темными народными массами?..
Было сумрачное осеннее утро перед самым началом зимы. Порывы холодного ветра стучали порой по оконным рамам крупными дождевыми каплями. Неприветливо висело низкое темное небо над неприветливым, мокрым зданием тюрьмы, делая его еще мрачнее обыкновенного, а жизнь, происходившую под его кровлей, еще страшней и удушливей. Вот резкими, точно отсыревшими звуками ударил звонок на обед; съежившиеся от холода камерные старосты пронесли из кухни баки с баландой, нагибаясь под их тяжестью. Суетливо пробежало за ними несколько праздно торчавших в кухне отощалых фигур. Тюремный день продолжал идти своей обычной колеей…
XI. Тревоги иного рода
Невеселого свойства события описывал я в предыдущих главах. И если бы события эти были финальным аккордом в сложной истории отношений темной каторжной кобылки к небольшой кучке интеллигентных арестантов, если бы они являлись чем-то вроде последнего слова в этой истории, рокового и непоправимого слова, то читатель, быть может, сделал бы из него даже более грустные выводы, чем те, к каким приходил сам я в минуту уныния и душевной слабости. И он был бы, может быть, прав… Но, к счастью, действительность в ее целом не была так мрачна. В сущности, описанные мной недоразумения и ссоры были не более как преходящим моментом из многолетней совместной жизни нашей с каторгой, моментом, который совершенно непредвиденно вынырнул из самой мирной и дружелюбной тишины, разразился рядом бурных конфликтов более или менее трагикомического свойства и затем, после увоза тюремных главарей, сменился прежней невозмутимой тишиной и прежними дружескими отношениями, опять длившимися годы. Тем не менее этот короткий сравнительно период казался мне не лишенным своего значения и характерности; мне думалось, что отбрось я его, как нечто не типичное, мимолетное, ограничься картиной обычных отношений с арестантами, представленной в первой части очерков — и от записок моих, как от всего неполного и недосказанного, веяло бы в значительной степени неискренностью, своего рода ложным, приторно сладким сентиментализмом.
Мне остается лишь сказать по этому поводу, что пережитые треволнения не прошли без следа ни для одной из враждовавших сторон, ни для каторги, ни для меня с товарищами. Что касается первой, то, признаюсь откровенно, ее поведение не раз вызывало во мне глубочайшее удивление. Невозможно было, конечно, предполагать, чтобы летние события были забыты ею так скоро и так окончательно; напротив, по общему настроению чувствовалось нередко, что арестантами ничто не забыто… И, однако, ни разу и никто из них (даже из самых неразвитых умственно и нравственно) не заводил в нашем присутствии громкого разговора о прошлом. Точно какое-то безмолвное, но твердое соглашение состоялось между всеми на этот счет: молчать, никогда не вспоминать о том, что было. Сказывалась ли тут своего рода деликатность? Играло ли некоторую роль то обстоятельство, что под конец волнений нами усвоена была политика показного равнодушия к их исходу и твердого стояния на избранной раз позиции? Как бы то ни было, повторяю, никогда больше не видал я со стороны наших сожителей ни малейшего поползновения возобновлять ссоры.
Горечь обиды, одно время обуревавшая увлекающегося Башурова и толкавшая его на необдуманные слова и поступки, тоже скоро улеглась: от природы он был добр и незлопамятен. Крайние мнения его об арестантах, так неприятно, противоречившие одно другому и быстро менявшиеся, с течением времени смягчились и уравновесились; в конце концов взгляды наши сблизились и примирились. Но, кроме того, пережитые неприятности научили нас всех троих быть сдержаннее, зорче следить за каждым своим шагом, имевшим хоть косвенное отношение к каторге и ее интересам. Если благодаря этому поведение наше, быть может, и утратило несколько свою прежнюю непринужденность и не» посредственность, то, с другой стороны, гарантировало от новых крупных ошибок, а это было, конечно, самое главное.