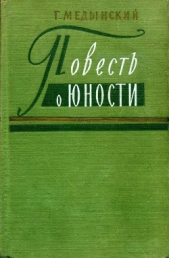Записки жильца

Записки жильца читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Слесарь вернулся с работы в светлый предвечерний час. Внушительных размеров херсонский арбуз казался невесомым в его крупной, шершавой руке. Лицо, покрытое загаром и копотью, светилось фонариками умных глаз. По дороге Цыбульский пальцем постучал Лоренцам в стекло раскрытого окна, кивнул Мише. Когда Миша вбежал к нему, он, голый до пояса, мылся на кухне под краном. "Рашели нет", - обрадовался Миша. Не торопясь, Цыбульский надел чистую майку, красиво разрезал половину арбуза, другую половину прикрыл куском марли, пригласил Мишу к столу. Он слушал, не прерывая Мишу ни единым словом. Только когда Миша сказал (а это его мучило): "Я поставил подпись, по-моему, слишком низко, отступил от последней строки сантиметра на три, как бы они туда чего-нибудь не впечатали", - Цыбульский успокоил его:
- Глупости. Им это не нужно. И вся бумажка - грошовая.
А когда Миша кончил рассказывать, Цыбульский набил гильзу табаком, вкусно закурил, одобрил:
- Ты вел себя хорошо. Конечно, слегка в штаны наклал, когда согласился со следователем, что ты по убеждению коммунист, но кто тебя осудит? Времена не желябовские. Я, политический, вел себя с царскими жандармами иначе, но вся-то штука в том, что ты не политический, а обыватель, а они не царские жандармы, а налетчики. Я думаю, что больше они не будут тебя трогать. Поняли, что от тебя мало толку. А будут трогать, так помни: лучше умереть от них, чем быть с ними. Ты увидишь, что именно Калайда, самый слабый, получит самый большой срок.
Цыбульский на этот раз оказался не совсем прав. Действительно Ивану Калайде дали восемь лет концлагеря, в то время как Лилю Кобозеву и Олю Скоробогатову присудили к ссылке в Нарьян-Мар на пять лет. Оля в тюрьме родила девочку, пора тогда была мягче, ребенка отдали родителям арестованной. А Елисаветского поместили в Психиатрическую лечебницу имени Свердлова. Он вышел оттуда через два года. Говорили, что он стал слабоумным. Миша решил навестить его. Семья переплетчика жила в центре города, на Успенской, но на заднем дворе, рядом с отхожим местом, а окно выходило на мусорный ящик. Родители Эммы обрадовались Мишиному приходу, но Эмма с ним не поздоровался. Лицо его было желтым, одутловатым, взгляд бессмысленным. Он помогал отцу переплетать книги, но не читал их - так при нем сказала Эммина мама. Двое младших делали уроки. Миша о чем-то спросил Эмму, но тот не ответил, отвернулся, как показалось Мише, с больной брезгливостью. Мать Эммы заплакала.
Вернувшись после войны из Германии, Миша узнал, что Елисаветский умер во время эвакуации, на какой-то станции между Новороссийском и Сталинградом. А Лилю и Олю судили повторно, отправили из Нарьян-Мара в концлагерь на десять лет, и они исчезли из жизни. Совсем недавно Мише сказали, будто Калайда, отбыв срок, стал в Норильске заместителем начальника планового отдела. Не сказали ему только, что в этом отделе вкалывает зэк Шалыков, следователь, значит, предвидел правильно, он снова работал под началом Калайды.
Мишу больше не вызывали на Мавританскую. В аспирантуру его не приняли, ассистентом не взяли, он устроился в университете лаборантом. Он продолжал заниматься лингвистикой, изредка статьи его печатались, даже в Москве. Он был одинок все эти предвоенные годы, редко встречался и с Володей Варути, хотя они жили в одном доме. И мертвые продолжали с ним жить в одном доме. Мертвые, мертвые, видите ли и вы его оттуда - из золы, из снега, из газовой камеры, из вечной мерзлоты, из вечного дня?
Глава тринадцатая
Выслали из города греческое население, но Димитраки оставили. Этим супруги были обязаны Севостьянову. Профессор самым решительным образом воспрепятствовал удалению из Института глазных болезней и высылке жены Димитраки, старой, тяжело больной, только что оперированной. Милиционера профессор прогнал, представителя горздрава прогнал, товарищей из района прогнал. Власти разводили руками: "Капризный старик! Но - сила, гениальный окулист, депутат Верховного Совета СССР! Ладно, оставим банабачку, может, старуха еще и ослепнет, и мужа ей оставим, хотя на что он ей. Тем более есть прецедент, одной греческой семье уже разрешено не выезжать, у них там старик - член партии с апреля семнадцатого года".
Лоренц заметил в родном городе одну особенность наших знатных людей ученых, артистов, художников кисти и пера: чем постыдней, чем подлей они в главном, тем непреклонней, строптивей позволяется им быть в бытовых частностях. Впрочем, к Севостьянову это правило было применимо с оговорками. Уже тогда, в тот ужасный день, когда он, назначенный румынами ректором университета, сказал Лоренцу: "Вас недооценивали ученые большевистские бонзы", Лоренц почувствовал, что бывший глава наших черносотенцев растерялся. Одно дело - ненавидя революцию, кричать, что Россию продали жиды и поляки, а другое - участвовать в поголовном истреблении нации. Что-то важное поднялось со дна его жесткого, дрогнувшего сердца. Лоренцу рассказывали, что все годы оккупации он укрывал в своем Институте глазных болезней врача-полукровку Сироту, а когда один из сотрудников донес, профессор поехал к самому примару Пынте и уладил скверное дело. И теперь, когда пришли за женой Димитраки, он заорал: "Здесь нет ни эллина, ни иудея, здесь больные!"
Димитраки со слезами на колючих глазах, увлажнявшими мягкие мешочки, попросил у профессора разрешения реставрировать у него на дому какую-нибудь мебель, комод, скажем, или кресло, и профессор, глядя на старые, но крепкие руки столяра, удовлетворенно заметил: "Только у вас, Христофор Никосович, да у меня хорошие, уверенные в себе руки, а все прочие теперь калеки, паразиты, ничего не умеют".
Вот и вернулась домой мадам Димитраки, сгорбленная, седенькая, только волосы усиков и бородки были черными. Операция прошла удачно, у Севостьянова были колдовские руки. И связи у него были колдовские, он помог, не выслали греческую чету, которая здесь родилась и прожила семьдесят лет. Христофор Никосович гордо шел с женой от остановки трамвая на Покровской. В трамвае, правда, произошло неприятное происшествие. Один пассажир, в очках, с портфелем, толкнул мадам Димитраки, которая больными глазами не увидела, что он решил сесть на освободившееся место, и обозвал ее жидовкой. Он, видно, был из новых жителей города, не привык, путал эллинов с иудеями, но это пустяк, мадам Димитраки была счастлива. Половину ее смугло-желтого, сморщенного личика занимали темные очки. Старые жители Покровской шумно выражали супругам свой восторг. Соседи по квартире приготовились к встрече, Ионкисы принесли розы и вазу с фруктами.
А тут и вторая радость - освободили Фриду. Она пришла сама, чуть ли не на рассвете. Дина и Миша лежали вместе. Дина, завернувшись в простыню, бросилась к матери. Она ждала Фриду со дня на день: деньги следователь взял. Фрида подошла к постели, поцеловала Мишу. Она мечтала о зяте, и вот у нее есть зять, больше, чем зять, - сын, ведь он вырос на ее глазах, и она заплакала. Если бы Еличка была жива, ей было бы уже сорок лет! А давно ли Миша и Володя Варути принесли ее, мертвую, из Немецкого клуба! Кажется, это было вчера, и Вольф бросил их вчера, и в подполе они прятались только вчера.
Миша сердцем понял, о чем думает, о чем плачет Фрида. Может, это было немного смешно - он выпростал из-под одеяла голую руку и погладил длинную, темную и, как у Дины, изъеденную раствором худую руку Фриды. Как сильна эта маленькая женщина! Все было против нее - от предательского легкомыслия Вольфа до тотального могущества националистического социализма, но она, Фрида, выстояла, вырастила дочь, спасла от гибели ее и себя.
Почему тогда, в военном октябре 1941 года, не все, обреченные на поголовную гибель, покинули город? Причиной, как всегда и всюду, были жизнь и смерть. Подавляющее большинство тех, кто страшился немцев, еще летом эвакуировались на пароходах, но в город прибывали толпы из местечек, занимаемых захватчиками. Дина Сосновик, студентка экономического факультета, была на практике в деревне в Андрей-Ивановском районе, Фрида ждала ее, не хотела, не могла уехать без дочери, а когда дочь вернулась в город, в сентябре, под ихний Новый год, было уже поздно, талоны на пароход не выдавались, единственный путь из города - по морю - был предоставлен армии, и тот, кто жил недалеко от порта, видел, как в тумане, стелившемся над морской водой, исчезали одно за другим суда, перебрасывавшие армию в безнадежно сражавшийся Крым, - исчезали "Украина", "Армения", "Абхазия", "Жан Жорес", "Котовский"... Суда ушли, армия ушла, а Дина и Фрида Сосновик остались.