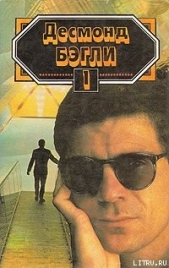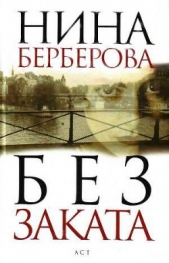Последние и первые
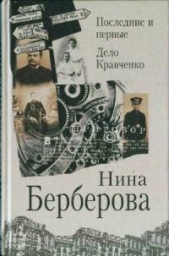
Последние и первые читать книгу онлайн
Первый роман Н. Берберовой - "Последние и первые", - напечатанный в виде фрагментов вначале в "Современных записках" (1929 г.), а затем целиком в парижском издательстве Я. Поволоцкого - был фактически первым русским романом, посвященным жизни простых русских во Франции.Несмотря на некоторую подражательность, почти всегда присущую первым произведениям любого начинающего автора, роман вызвал много откликов и сочувственных рецензий.Но было в этом романе еще одно. Чуть ли не первой Берберова почувствовала то давление, которое еще в годы НЭПа стали оказывать на выходцев из России большевистские органы. В романе показана деятельность целой организации по "ловле" и возвращению в СССР заблудших. Именно этой "руке Москвы" пытаются противостоять герои романа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она вся вытянулась.
— Вы приехали со всеми, Алеша, значит не на «лоно природы», не «размякнув душой»?
Она не удержалась и рассмеялась тихо и коротко, руки ее, сложенные до тех пор на коленях, распались.
— И знаете, какую он мне работу нашел? Никогда не поверите: по счетной части!
Она подняла брови и полуоткрыла рот — каждое его слово было для нее, как песня, — оно ей туманило ум и наполняло душу восторгом.
— Хотите расскажу, как все случилось? Случилось не так уж просто, и я боялся, что они меня с собой не возьмут. Когда я пришел к Расторопенко, он на меня посмотрел, как на совершенного проходимца. Откуда? Что такое? (Это Илья оставил мне его адрес.)
— Илья? Значит он знал, что вы придете?
— Ох, нет. Иначе бы он непременно вам об этом сказал. Он оставил мне адрес «на всякий случай» — черт знает, что это выражение для него значит, ведь он действует «без надежды»… Так вот господин Расторопенко (презанятный, я вам скажу, субъект, в наше время модно было таких в литературе изображать), господин этот просто выставил меня вон. И тогда мне пришлось обратиться за помощью к одному доброму человеку, некогда весьма деятельному по части революций, который сейчас особенно хорош тем, что на покое. Я знал, что он занимается всяческой филантропией, я знал также, что он знаком с Ильей, но оказалось, он и Расторопенко знает — в Париже все друг друга знают, вы и не поверите. Этот добрый человек сейчас же повез меня к Расторопенко обратно, сказал, что ручается за меня и даже дал мне немного денег взаймы — по правде сказать, прожился я в Париже страшно. Но и это обошлось — деньги его не понадобились: накануне отъезда трое из партии отказались ехать, говорят — им место вышло на Деляже, они предпочли остаться. Расторопенко говорил, что тут дело не чисто, но на что он намекал, я не понял. Одним словом, меня взяли вместо одного из оставшихся, я приехал на казенный счет, подписал нынче контракт, и меня даже застраховали. Но из уважения к моим сединам — (он улыбнулся, выждав несколько мгновений), — из меня решили сделать что-то вроде старшего: говорят — университет и все такое… Кроме того, — хромота. Там, за городом огромное дело делается, Вера, там предполагают чуть ли не вдвое фабрику спаржных консервов расширять, но рабочих русских на фабрику не берут — русских приспособляют к самой этой спарже. А им того только и надо, — для всех это лишь начало какой-то прочной и «своей» жизни.
Вера Кирилловна сидела и слушала. Это он ей разъяснял! Откуда бралась у него дерзость! Она улыбнулась и сейчас же вновь стала внимательной.
— Я рассказываю вам все это с какой-то легкостью, с легкомыслием даже, — сказал Шайбин. — Илья научил меня этому. И разве сами вы не говорили: или сделать то, что я сделал, или сгинуть? Вы сами говорили, что иначе — петля. Вера, вы были правы…
Вера Кирилловна вслушивалась в каждое слово. Несмотря на ровный голос, на радостное лицо, он за время их короткой разлуки изменился, он не мог не измениться, он не мог не замучиться в столице, и следы этих мучений были повсюду, даже в слишком отчетливо заблестевшей седине. Она угадывала в нем подъем, какой наступает после принятого решения, она знала, что после этого подъема придет усталость, может быть, разочарование, может быть, сожаление. А потом пройдет и это. Она видела за ним, за дорогими ей очертаниями его плеч и немного узкой головы, его жизнь. И прошлого для нее в эту минуту как бы вовсе не существовало. Тут начиналось прямо противоположное прошлому — тут начиналось то будущее, в котором она становилась хозяйкой.
— Я должен идти, я не хочу вернуться слишком поздно, — сказал Шайбин.
— Вы не поужинаете с нами?
Он отказался. Он уже видел себя на обратном пути, видел поля, платаны…
Он встал, и горбатовский двор с беспокойными курами, с неповоротливой, мохнатой собакой, вдруг напомнил ему, что пришел он сюда не только похвастать собою, но и сказать последнее слово Васиной истории.
— Он не писал вам, с тех пор, как уехал? — спросил Шайбин, и Вера Кирилловна сразу угадала, о ком он говорит.
— Нет, он не напишет.
— Верно, что не напишет. Я видел его. Он не ухал в Москву, он остался в Париже. Его вернули с вокзала.
— Он не ухал? — повторила Вера Кирилловна. — Что вы, вы ошибаетесь! Кто мог его вернуть?
— Я говорю вам: его вернули. В тот же вечер он выехал из гостиницы, где мы жили, и адреса его я не знаю. Это она вернула его. Говорят, багаж его уехал, был у него багаж или нет — не знаю. Она с ним и переехала.
— Да кто она такая?
— Вы не знаете ее… Она вытащила его прямо из поезда — так рассказывали ее подруги, и теперь она уже не отпустит его от себя. Я их видел в тот самый вечер.
— Да кто она?
Шайбин не взглянул на Веру Кирилловну; он смотрел в сторону, может быть, на дорогу, где в это самое время пронеслась высокая телега; бич кружил по небу, тарахтели колеса.
— Вы не знаете ее, — сказал он с усилием, — Илья знает. Скажите ему, что ее зовут Анна Мартыновна Слетова.
Он опять взглянул на нее, не протянул ей руки. Она стояла в растерянности, не зная, что подумать: смеет ли она радоваться тому, что он сказал, или не смет? Радость или горе значили его слова? Радость, радость, — шепнула она про себя. Или оттого это радость ей, что слова эти говорил Шайбин?
Она сложила руки.
— Алеша, — тихо сказала она, — нет, ничего, простите меня!.. Так вы совсем наверное знаете, что Вася в Париже?
— Наверное.
— Ну, спасибо вам, это все-таки большое мне утешение, и Марьянне, и Илье. Спасибо, что пришли, что сказали.
Он пошел вниз, к воротам, он шел и думал, он думал душою, — «здесь кончается одна жизнь и начинается другая. Здесь вертикальная линия, рассекающая мое время пополам. Я все сделал, все сказал. О, моя совесть!»
Он скрылся за большим, беспорядочным кустом смородины; в саду стало тихо. В саду шептались в предвечернем дыхании персиковые деревья, неподвижны и царственны были одни кипарисы, те, за которыми начинались поля, начинались луга, лес, просторы…
Вера Кирилловна стояла и смотрела перед собой. Прислоненный к крыльцу колун блестел на солнце, словно кусок зеркала. Наконец, она закрыла глаза — кусок ослепительного зеркала, кусок солнца, превратился в черное пятно.
Оно то ширилось, заволакивая собою какие-то падающие вверх искры, и тогда становилось похоже на огромную медузу; то уменьшалось до колючей точки — и тогда искры переставали падать, они плыли на месте, дрожали, меняя окраску; они сияли, пока чернела точка, и вместе с нею стали бледнеть. И красное небо, в котором все это происходило, постепенно сделалось серым; растаяли, ушли куда-то в сторону золотые и черные звезды.
Когда Вера Кирилловна подняла веки, из огорода, с лейкой в руках, вышла Анюта. Она теперь тоже стала носить круглую соломенную шляпу (Марьянна подарила ей свою старую). Анюта подошла к крану, с важностью подставила лейку и дождалась, пока лейка наполнится. Тогда она обеими руками крепко завернула кран и пошла обратно, наклонившись от тяжести в сторону и преувеличенно далеко отставив руку (так делала Марьянна). Несколько тяжелых капель упало ей на пыльный деревянный башмак.
1928—29. Прованс — Париж.