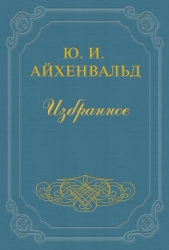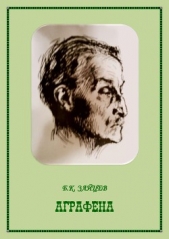Земная печаль

Земная печаль читать книгу онлайн
Настоящее издание знакомит читателя с лучшими прозаическими произведениями замечательного русского писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881 —1972). В однотомник вошли лирические миниатюры, рассказы, повести, написанные в 1900-х — начале 1950-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все это было так давно, что легендой веет от воспоминаний; и кажется, что уже нет и самого села, и дома, и другие поля, другие леса вокруг, другие люди живут на том месте. Но из седой были человеческое сердце слышит все тот же привет — чистый и прозрачный. И жизнь идет далее.
В середине зимы отца перевели на соседний завод, верст за сорок. Сперва уехал он сам, потом начались сборы и укладыванья семьи. В комнаты натащили ящиков, и началось разрушение. Горько было видеть, как со стен снимали фотографии, зашивали в рогожу диваны, сдирали портьеры. Милый, старый дом, с которым многое уже было связано, разоряли. И вместе со спрятанными солдатиками, с рисунками лошадей, коз удалялась часть жизни, еще такая малая и юная, но уже дававшая о себе знать.
За день до отъезда Женя прощался с друзьями, с играми, с любимыми местами. Он обошел на лыжах большой сад, сошел к сажалке; как всегда, незамерзающим ручьем бежала оттуда вода. Вот развалины сахарного завода, откуда с Собачкой и Соней они носились по отвесному скату на лыжах; налево церковь, погост, и внизу луга — такие безбрежные и ясные летом, а сейчас это белая равнина. Он хотел было съехать на лыжах с горки, в последний раз, но что‑то защемило в сердце и, вздохнув, он вернулся домой.
Ужинали при свечах — ламп уже не было. Голые стены, натоптанные полы, черные окна. Женя поскорей лег спать. Но и заснуть долго не мог. Встал он на другой день бледный и печальный.
Было уже подано двое саней. Мужики собрались провожать. Из дому тащили последние вещи и грузили на подводы. В кухне Дашенька плакала, целуясь со своими приятельницами с Поповки, «женами мироносицами» [107].
Соню и Женю одели в полушубки, завернули в тулупы, — как безмолвные туши были они втиснуты в сани. Скрипел снег, солнце блестело. Больно было глядеть от света. На повороте, в околице стояли группой мальчишки и кланялись. Женя вспомнил, что он ничего не подарил на память Настасье, игравшей с ним преданно, и вздохнул.
Но было поздно. Лошади, хорошо кормленные перед дорогой, шли бойко; сияла снежная равнина, в лицо из‑под копыт летели комья — тройка дружно взнеслась на мост, где прошлой весной Женя терпел аварию. Высунувшись, насколько мог, он обернулся: вдали на горе белел двухэтажный дом, у околицы как будто копошились фигурки. Горло Жени сжалось. Чтобы не выдать себя и рассеяться, в меланхолическом излиянии, он замурлыкал:
слова старого романса, который он недавно слышал.
— Не пой, — сказала мама, улыбнувшись, — простудишь горло.
Он напевал про себя, и все время ему хотелось плакать.
Жизнь на новом месте оказалась не хуже, если не лучше, прежней. Правда, не было старых друзей — Вальтона, Настасьи. Лизу Собачку увезли к родителям. Но явилось и то, чего раньше не было.
Здесь отец управлял заводом. Ему отвели огромный дом, куда можно было вместить два прежних, на берегу озера. На полторы версты шла ровная снежная скатерть; на горизонте лес синел. За гигантской плотиной лежал завод, чернели крыши, двумя огромными столбами возвышались доменные печи. Все это было необыкновенно и привлекательно. Несколько раз отец брал с собой Женю на завод. Они выезжали в «дежурке», у ворот завода сторожа подобострастно кланялись отцу — и дальше они попадали в казавшееся Жене ужасным царство печей, огней и железа. В одном месте бил молот по раскаленной мягкой глыбе; вздыхая, она оседала, стреляя золотыми звездочками. В прокатных вальцах вытягивались огненно–красные ленты; это будущие рельсы. Литейщики ждали выпуска чугуна, и когда отворялась утроба домны, оттуда лился ослепительный металл, от одного прикосновения к которому загорались щепки. Рабочие подбегали к струе, подставляли черпаки и рысью, покачиваясь, чуть не расплескивая жидкость, бежали к опокам, выливая туда чугун.
— В прошлом году был случай, — говорит отец, — один залил себе за сапог. Теперь мы не позволяем в сапогах ходить.
Женя бледнел, представляя себе сожженную ногу, крепче держался за отца. После всех этих литейных, механических, ремонтных — радостно было опять сесть в санки и по чистому снегу катить мимо базарной площади, церкви, по набережной озера — домой. Вот на углу «господский дом» — отель для одиноких инженеров, где всем управляет толстенькая Евдокия Ильинична. Красный дом доктора, и, наконец, они у своего подъезда. Выбегает старый Тимофеич, отстегивает полость. И уже ждет обед, в огромной столовой, переделанной из зимнего сада, со стеклянной стеной на озеро. После обеда можно уйти наверх; верхний этаж меньше нижнего — нечто вроде мезонина; но там две огромные комнаты — Жени и Сони, и большая средняя, где трапеции. Из Жениной снова видно озеро. Оно тянет к себе взгляд ровной белизной, великим спокойствием снега, умиряющего заводской гомон. В этой светлой теплой комнате можно мечтать, глядя на дальние леса, рисовать, ожидая, что вот нарисуешь что-нибудь замечательное, — и незаметно снежное поле засинеет, настанут сумерки, чай среди милых сердцу, вечернее чтение «Красного кедра», «Дальнего Запада» [108]. Неведомые края, приключения, охоты затолпятся в мозгу, и станешь просить маму скорее послать в уездный город менять книжки — к старому еврейчику, у которого такой запас чудесного.
Когда ложатся спать, в комнате Жени розоватый отсвет. Это далеко, за плотиной, полыхают над домнами языки газа; как два громадных факела, будут они краснеть всю ночь, освещая завод, село, белое озеро.
Может быть, их увидит лось, если подойдет к опушке дальнего леса — ив ужасе помчится назад. И, во всяком случае, видны они на много верст едущему темной ночью.
Вечером в субботу отец сказал: «Завтра едем на буер». Женя радостно волновался, а утром, проснувшись, увидел на озере трехугольную платформу на коньках, с парусом. Толпились любопытные, у мачты возился полковник Говард, начальник мастерских, — человек лысый, веселый и решительный.
Одеваться и пить чай при таких условиях было трудно. Как‑никак это то же самое, что описано у Жюля Верна в «Вокруг света в 80 дней».
Отец тоже был весел, смеялся и говорил:
— Ну, Говард, не завезите нас в полынью.
— Перескочим.
Однако Говард как раз был знаменит неблагоразумием; недавно был случай, когда он на серой кобыле чуть не провалился в воду.
Наконец буер готов, отец с Женей садятся на платформу, на руле Говард. Сначала толкают двое рабочих; медленно и как‑то вяло под напором ветра плывет зимний корабль, чертя коньками. Вот обширная лысина, с которой снег сдут. Сразу буер подхватывает, дышать трудней, но какой легкий, волшебный полет! И теперь неважно, снег дальше или лед, как вырвавшаяся птица летит снаряд в белом просторе, и лес на той стороне растет, выступает, вот видна уже лесопилка. Перекинуть парус — буер выпишет дугу и пойдет назад, но уже тише, лавируя под ветром зигзагами.
— Замерз? — спрашивает отец.
Женя храбрится, но в сущности ногам холодно. Через полчаса они возвращаются, Говард катает немного девочек, а потом идут завтракать. Отец с Говардом пьют водку, крякают и рассказывают охотничьи истории. Маня, приехавшая перед праздниками из гимназии, слушает их пренебрежительно. Она теперь взрослая, учится в Риге, и на полках у ней стоит Гете по–немецки. Соничка с Женей забираются к ней наверх. Маня мечтает о курсах, через два года ей хочется в Петербург, но родители не знают еще об этом, и на мягком диване, при треске камина, идут долгие рассказы о незнакомой жизни в большом городе, студентах, учителях.
Приходит Зина, Манина подруга, дочь заведующего конторой. Разговор быстро сходит на «умное». Все республиканцы. Почему должна быть республика?