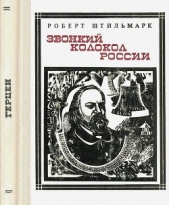Былое и думы.(Предисловие В.Путинцева)

Былое и думы.(Предисловие В.Путинцева) читать книгу онлайн
Писатель, мыслитель, революционер, ученый, публицист, основатель русского бесцензурного книгопечатания, родоначальник политической эмиграции в России Александр Иванович Герцен (Искандер) почти шестнадцать лет работал над своим главным произведением — автобиографическим романом «Былое и думы». Сам автор называл эту книгу исповедью, «по поводу которой собрались… там-сям остановленные мысли из дум». Но в действительности, Герцен, проявив художественное дарование, глубину мысли, тонкий психологический анализ, создал настоящую энциклопедию, отражающую быт, нравы, общественную, литературную и политическую жизнь России середины ХIХ века.
Роман «Былое и думы» — зеркало жизни человека и общества, — признан шедевром мировой мемуарной литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы ему купим остальную часть Капреры, мы ему купим удивительную яхту — он так любит кататься по морю, — а чтоб он не бросил на вздор деньги (под вздором разумеется освобождение Италии), мы сделаем майорат, мы предоставим ему пользоваться рентой. [1156]
Все эти планы приводились в исполнение с самой блестящей постановкой на сцену, но удавались мало. Гарибальди, точно месяц в ненастную ночь, как облака ни надвигались, ни торопились, ни чередовались — выходил светлый, ясный и светил к нам вниз.
Аристократия начала несколько конфузиться. На выручку ей явились дельцы.Их интересы слишком скоротечны, чтоб думать о нравственных последствиях агитации, им надобно владеть минутой, кажется, один Цезарь поморщился, кажется, другой насупился — как бы этим не воспользовались тори… и то Стансфильдова история вот где сидит. (264)
По счастью, в самое это время Кларендону занадобилось попилигримствовать в Тюльери. Нужда была небольшая, он тотчас возвратился. Наполеон говорил с ним о Гарибальди и изъявил свое удовольствие, что английский народ чтит великих людей, Дрюэн-де-Люис говорил, то есть он ничего не говорил, а если б он заикнулся –
Австрийский посол даже и не радовался приему умвельцунгс-генерала.Все обстояло благополучно. А на душе-то кошки… кошки.
Не спится министерству; шепчется «первый» с вторым, «второй» — с другом Гарибальди, друг Гарибальди — с родственником Палмерстона, с лордом Шефсбюри и с еще большим его другом Сили. Сили шепчется с оператором Фергуссоном… Испугался Фергуссон, ничего не боявшийся, за ближнего и пишет письмо за письмом о болезни Гарибальди. Прочитавши их, еще больше хирурга испугался Гладстон. Кто мог думать, какая пропасть любви и сострадания лежит иной раз под портфелем министра финансов?..
…На другой день после нашего праздника поехал я в Лондон. Беру на железной дороге вечернюю газету и читаю большими буквами: «Болезнь генерала Гарибальди», потом весть, что он на днях едет в Капреру, не заезжая ни. в один город.Не будучи ни так нервно чувствителен, как Шефсбюри, ни так тревожлив за здоровье друзей, как Гладстон, я нисколько не обеспокоился газетной вестью о болезни человека, которого вчера видел совершенно здоровым, — конечно, бывают болезни очень быстрые; император Павел, например, хирел не долго, но от апоплексическогоудара Гарибальди был далек, а если б с ним что и случилось, кто-нибудь из общих друзей дал. бы знать. А потому не трудно было догадаться, что это выкинута какая-то штука, un coup monte. [1158]
Ехать к Гарибальди было поздно. Я отправился к Маццини и не застал его, потом — к одной даме, от (265) которой узнал главные черты министерского сострадания к болезни великого человека. Туда пришел и Маццини, таким я его еще не видал: в его чертах, в его голосе были слезы.
Из речи, сказанной на втором митинге на Примроз-Гиле Шеном, можно знать en gros, [1159]как было дело., «Заговорщики» были им названы, и обстоятельства описаны довольно верно. Шефсбюри приезжал советоваться с Сили; Сили, как деловой человек, тотчас сказал, что необходимо письмо Фергуссона; Фергуссон слишком учтивый человек, чтоб отказать в письме., С ним-то в воскресенье вечером, 17 апреля, явились заговорщики в Стаффорд Гауз и возле комнаты, где Гарибальди спокойно сидел, не зная ни того, что он так болен, ни того, что он едет, ел виноград, — сговаривались, что делать. Наконец храбрый Гладстон взял на себя трудную роль и пошел в сопровождении Шефсбюри и Сили в комнату Гарибальди. Гладстон заговаривал целые парламенты, университеты, корпорации, депутации, мудрено ли было заговорить Гарибальди, к тому же он речь вел на итальянском языке, и хорошо сделал, потому что вчетвером говорил без свидетелей. Гарибальди ему отвечал сначала, что он здоров, но министр финансов не мог принять случайный факт его здоровья за оправдание и доказывал по Фергуссону, что он болен, и это с документом в руке. Наконец, Гарибальди, догадавшись, что нежное участие прикрывает что-то другое, спросил Гладстона, «значит ли все это, что они желают, чтоб он ехал?» Гладстон не скрыл от него, что присутствие Гарибальди во многом усложняет трудное без того положение.
— В таком случае я еду.
Смягченный Гладстон испугался слишком заметногоуспеха и предложил ему ехать в два-три города и потом отправиться в Капреру.
–. Выбирать между городами я не умею, — отвечал оскорбленный Гарибальди, — и даю слово, что — через два дня уеду.
…В понедельник была интерпелляция в парламенте., Ветреный старичок Палмерстон в одной и быстрый пилигрим Кларендон в другой палате все объясняли по (266) чистой совести, Кларендон удостоверил пэров, что Наполеон вовсе не требовал высылки Гарибальди. Палмерстон, с своей стороны, вовсе не желал его удаления, он только беспокоился о его здоровье… и тут он вступил во все подробности, в которые вступает любящая жена или врач, присланный от страхового общества, — о часах сна и обеда, о последствиях раны, о диете, о волнении, о летах. Заседание парламента сделалось консультацией лекарей. Министр ссылался не на Чатама и Кем-беля, а на лечебники и Фергуссона, помогавшего ему в этой трудной операции.
Законодательное собрание решило, что Гарибальди болен. Города и села, графства и банки управляются в Англии по собственному крайнему разумению. Правительство, ревниво отталкивающее от себя всякое подозрение в вмешательстве, дозволяющее ежедневно умирать, людям с голоду — боясь ограничить самоуправление рабочих домов, позволяющее морить на работе и кретинизировать целые населения, — вдруг делается больничной сиделкой, дядькой. Государственные люди бросают кормило великого корабля и шушукаются о здоровье человека, не просящего их о том, прописывают ему без его спроса — Атлантический океан и сутерландскую «Ундину», министр финансов забывает баланс, income-tax, debet и credit и едет на консилиум. Министр министров докладывает этот патологический казус парламенту. Да неужели самоуправление желудком и ногами меньше свято, чем произвол богоугодных заведений, служащих введением в кладбище?
Давно ли Стансфильд пострадал за то, что, служа королеве, не счел обязанностью поссориться с Маццини. А теперь самые местныеминистры пишут не адресы, а рецепты и хлопочут из всех сил о сохранении дней такого же революционера, как Маццини?
Гарибальди должен былусомниться в желании правительства, изъявленном ему слишком горячими друзьями его, — и остаться. Разве кто-нибудь мог сомневаться в истине слов первого министра, сказанных представителям Англии, — ему это советовали все друзья.
— Слова Палмерстона не могут развязать моего честного слова, — отвечал Гарибальди и велел укладываться.
Это Сольферино! (267)
Белинский давно заметил, что секрет успеха дипломатов состоит в том, что они с нами поступают, как с дипломатами, а мы — с дипломатами,как с людьми.
Теперь вы понимаете, что одним днем позже— и наш праздник и речь Гарибальди, его слова о Маццини не имели бы того значения.
…На другой день я поехал в Стаффорд Гауз и узнал, что Гарибальди переехал к Сили, 26 Princes gate, возле Кензинтонского сада. Я отправился в Princes gate;
говорить с Гарибальди не было никакой возможности, его не спускали с глаз; человек двадцать гостей ходило, сидело, молчало, говорило в зале, в кабинете.
— Вы едете? — сказал я и взял его за руку. Гарибальди пожал мою руку и отвечал печальным голосом: