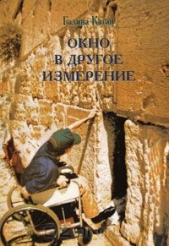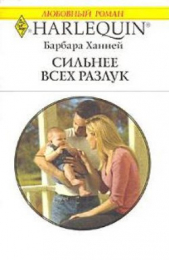Книга разлук. Книга очарований

Книга разлук. Книга очарований читать книгу онлайн
В издание вошли избранные рассказы, новеллы и легенды русского писателя Федора Сологуба.
Впервые «Книга разлук» и «Книга очарований» были опубликованы в 1908 и 1909 годах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И рыцари говорили ему:
– Победитель на многих турнирах, вождь искусный, ты вел нас, куда хотел, и мы шли за тобою, и верили в тебя. Но вот в пустыню завел ты нас, где господствуют демоны и сарацины. Таится враждебная сила, не смеет вступить с нами в открытый бой, – бесславно погубят нас коварные враги наши, демоны и сарацины. Что же твое искусство и твоя доблесть, благочестивый Ромуальд?
И возопило к нему все множество собравшихся:
– Накорми нас!
– Напои нас!
– Покажи нам дорогу!
Хриплы были голоса вопиющих, и бессильная была в них угроза, и жалкая, изнемогающая мольба.
Поник головою благочестивый Ромуальд из Турени, и думал долго. Затихли голоса его спутников, и трепетно ждало все множество их, что скажет им вождь.
И сказал Ромуальд:
– Что же вы от меня хотите? Что же я могу? Не из этого ли песка, попираемого ногами вашими, сотворю я вам пшено?
Концом своего посоха он быстро провел по песку, и серовато-белая поднялась пыль, и покатились, шелестя сухо, легкие песчинки.
В толпе тогда раздались радостные восклицания:
– Из песку сотворил Ромуальд нам пшено!
– Посрамлены Ромуальдом демоны пустыни!
Бросились люди на пересыпающиеся под их ногами песчинки, и проглатывали их, как пшено. Так обмануло их нестерпимое томление голода, и казалось им, что они насыщаются.
Другие же видели в пустыне только песок и камни, и угрюмо молчали, но не унимали тех, кто принимал песок за пшено, и не спорили с ними. И опять приступили к Ромуальду, и говорили ему:
– Нас томит жажда, – как дикий коршун, раздирает она внутренности наши. Скорей дай нам воды, или погибнем мы все до одного.
И сказал Ромуальд:
– Где же я найду для вас воды? Окружают нас только голые скалы. Не ударом ли посоха по камню изведу я для вас источник воды? Но вот, видите, скала не источает воды.
И ударил по скале концом своего посоха. Тогда люди, обманувшие свой голод небывалым пшеном, закричали громко:
– Из камня извел Ромуальд ударом своего посоха источник холодной воды!
– Снова посрамлены Ромуальдом коварные джины пустыни!
Толпясь и толкаясь, приникли к скале, сухой и серой, – и опять обманули их томления жажды, и казалось им, что они пьют воду. А другие стояли поодаль, и знали, что нет воды, но не спорили с теми, кто небывалою освежал запекшиеся уста водою.
И потом обманувшие свой голод и свою жажду приступили снова к Ромуальду, и говорили ему:
– Теперь мы готовы идти к Дамаску, – веди нас, указывай нам дорогу.
Опечаленный сказал им Ромуальд:
– Я не знаю дороги. Или вы хотите, чтобы посох мой сам показывал вам путь, которого я не знаю?
Дрожащею от слабости рукою бросил он прочь от себя свой посох, а сам сел под скалою, усталые закрыв глаза.
И спутники его радостно говорили между собою:
– Посох благочестивого Ромуальда из Турени укажет нам дорогу.
– Снова посрамлены будут Ромуальдом злые демоны пустыни.
Юный рыцарь Бертран, искусный в разведывании дорог, чуткий к далеким звукам, взял Ромуальдов посох, и пошел впереди путников, – тех, которые желанием чуда обманули свой голод и свою жажду. Скоро из мглистой дали сверкнули им в глаза золоченые иглы дамасских минаретов, – и под стенами этого славного города соединились они с другими отрядами крестоносцев.
А благочестивый Ромуальд из Турени и с ним три тысячи триста остались в пустыне, где господствуют демоны и сарацины. И умерли Ромуальд и с ним три тысячи триста от голода и жажды. Ночью на их трупы пришли шакалы, привлеченные запахом мертвых тел. Яркое солнце пустыни потом выбелило кости погибших. Потом демоны пустыни, вея сухими ветрами, долго играли грудою костей, – и стучала кость о кость, и песок пересыпался вокруг них и над ними.
Собака
Так все опостыло в этой мастерской – эти выкройки, и стук машинок, и капризы заказчиц, – в этой мастерской, где Александра Ивановна и училась, и уж сколько лет работала закройщицею. Все раздражало Александру Ивановну, ко всем она придиралась, бранила безответных учениц, напала и на Танечку, младшую из мастериц, вчерашнюю здешнюю же ученицу. Танечка сначала отмалчивалась, потом вежливым голоском и так спокойно, что все, кроме Александры Ивановны, засмеялись, сказала:
– Вы, Александра Ивановна, сущая собака.
Александра Ивановна обиделась.
– Сама ты собака! – крикнула она Танечке.
Танечка сидела и шила. Отрывалась время от времени от работы и говорила спокойно и неторопливо:
– Завсегда лаетесь… Собака вы и есть… У вас и морда собачья… И уши собачьи… И хвост трепаный… Вас хозяйка скоро выгонит, так как вы есть самая злющая собака, пес барбос.
Танечка была молоденькая, розовенькая, пухленькая девушка с невинным, хорошеньким, слегка хитреньким личиком. Смотрела такою тихонькою, и глазки были такие ясные, и бровки разбегались веселыми и высокими дужками на ровно-изогнутом беленьком лбу под гладко причесанными, темно-каштановыми волосами, которые издали казались черными. Голосок у Танечки был звонкий, ровный, сладкий, вкрадчивый, – и если бы слушать только звуки, не вслушиваясь в слова, то казалось бы, что она говорит любезности Александре Ивановне.
Другие мастерицы хохотали, ученицы фыркали, прикрываясь черными передниками, и опасливо посматривали на Александру Ивановну, – а Александра Ивановна сидела багровая от ярости.
– Дрянь, – вскрикивала она, – я тебя за уши выдеру! Я тебе все волосы повытаскаю!
Танечка отвечала нежным голосом:
– Лапки коротенькие… Барбос лается и кусается… Намордничек надо купить.
Александра Ивановна бросилась к Танечке. Но прежде чем Танечка успела положить шитье и встать, вошла хозяйка. Строго сказала:
– Александра Ивановна, опять вы скандалите!
Александра Ивановна взволнованным голосом заговорила:
– Ирина Петровна, что же это такое! Запретите ей меня собакою называть!
Танечка жаловалась:
– Излаяла ни за что ни про что. Всегда по пустякам ко мне придерется и лается.
Но хозяйка посмотрела строго и на нее и сказала:
– Танечка, я тебя насквозь вижу. Не ты ли и начинаешь? Ты у меня не воображай, что уж если ты мастерица, так и большая. Как бы я твою маменьку не пригласила по старой памяти.
Танечка багряно вспыхнула, но продолжала сохранять невинный и ласковый вид. Смиренно сказала хозяйке:
– Простите, Ирина Петровна, больше не буду. Только я и то стараюсь их не задевать. Да уж они очень строгие, слова им не скажи, сейчас, – «я тебя за уши». Такая же мастерица, ни как и я, а уж я им из девчонок вышла.
– Давно ли, Танечка? – спросила хозяйка внушительно и отошла.
Почти больная от злости вернулась домой Александра Ивановна. Танечка угадала ее больное место.
«Ну, собака, и пусть собака, – думала Александра Ивановна, – а ей-то что за дело? Ведь я не разведываю, кто она, змея или там лисица, что ли, – и не подсматриваю, не выслеживаю, кто она. Татьяна, и дело с концом. Обо всех можно узнать, а только зачем ругаться? Чем собака хуже кого другого?»
Летняя светлая ночь томилась и вздыхала, вея с ближних полей на мирные улицы городка истомою и прохладою. Луна поднялась ясная, полная, совсем такая же, как и тогда, как и там, над широкою, пустынною степью, родиною диких, рыскающих на воле и воющих от древней земной тоски. Такая же, как и тогда, как и там.
И так же, как тогда, горели тоскующие глаза, и тоскливо сжималось дикое, не забывшее в городах о степных просторах сердце, и мучительным желанием дикого вопля сжималось горло.
Александра Ивановна принялась было раздеваться, да что! все равно не уснуть.
Пошла из дверей. В сенях, теплые под ногами, шатались и скрипели доски сорного пола, и какие-то щепочки да песчинки весело и забавно щекотали кожу ног.
Вышла на крыльцо. Бабушка Степанида сидела, черная в черном платке, сухая и сморщенная. Согнулась, старая, и казалось, что греется в лунных холодных лучах. Александра Ивановна села рядом с нею, на ступеньки крыльца. Смотрела на старуху сбоку. Большой, загнутый старухин нос казался ей клювом старой птицы.