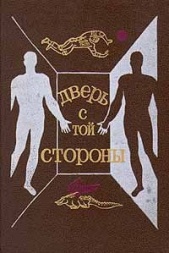Какая-то ерунда (сборник рассказов)

Какая-то ерунда (сборник рассказов) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Видно, проспиртовался он, - сказал, - за все свои годы насквозь, вплоть до клеток, атомов и молекул. 1994
ВИЗИТ К ЛЕНЕ
Как-то утром или, может быть, ближе к обеду течение жизни стало незаметным. А еще раньше стало ускользать от Кошонкина течение чужих жизней. Но это было раньше и объяснимо. Это всякого может постигнуть и постигает часто и повсеместно, и постигало в прошлом, и, наверно будет постигать в будущем. Потому что своя жизнь, она ближе к телу, чем чужая. А вот Кошонкин, несмотря на эту близость, перестал замечать и ее, свою собственную разъединственную жизнь. Вернее, не жизнь, жизнь он как-то все-таки замечал, а ее плавное течение. И это было, скорее всего, к лучшему, поскольку жил Кошонкин, в общем, никак и от такой своей никакой жизни стал даже чернеть лицом и телом, и у него иной раз спрашивали, где это он так умудрился загореть. На что Кошонкин не отвечал, а уходил и от вопроса, и от того, кто вопрос задавал, обижая тем самым спрашивающих. Но ему это было безразлично. Его и самого нельзя было ничем обидеть. Все по той же причине - не замечал Кошонкин ни обид, ни обидчиков, а если и замечал, то тут же их забывал.
А вначале, в самом начале, Кошонкин перестал замечать жену и кошку. И стал их забывать. Иногда он вспоминал о них и думал, что надо бы посмотреть, какая у меня теперь жена, как из себя выглядит, и какая кошка, какой хотя бы она масти, но в эти минуты жены и кошки обычно не оказывалось под рукой, и Кошонкин забывал их еще крепче и забыл в конце концов до такой степени, что точно и не знал уже, есть они у него или нет и засомневался, были они прежде или, может быть, их - нынешней его жены и кошки - не было у него изначально и поэтому некого ему было забывать и не замечать, а значит, и нечего на сей счет волноваться.
Да он и не волновался. Ни на какой счет вообще. Даже когда себя не заметил утром или, вернее, ближе к обеду. А еще вернее - к обеденному времени. Потому что обеда в смысле первого, второго и третьего, у Кошонкина не предвиделось. И Кошонкин выпил воды из бутылки и съел не до конца черствый бублик, лежавший на подоконнике, не помня, когда и кто его туда положил. Он вообще перестал вдруг помнить. Может быть, болезнью памяти заразился и заболел, а может быть, нечего ему было помнить. И незачем. Ведь то, что прошло и осталось где-то там, в прошлом и, значит, ни в чем, никакими такими особыми приметами или заслугами не отличалось - чтобы помнить его впоследствии, а настоящее - смысла не имело помнить, поскольку чего же его помнить, если вот оно, здесь и сейчас, и тоже становится прошлым прямо на глазах, практически ничего в нем не оставляя.
Бублик был черствый, но вкус свой сохранил, и Кошонкин его почувствовал, а вода, видно, долго стояла в бутылке и весь свой вкус от времени потеряла, зато приобрела запах тления. Кошонкин запил бублик водой с запахом и оставил бутылку стоять на подоконнике в прямых лучах июльского солнца и высыхать изнутри. Здесь же, на солнце, лежала, желтея, бумажка. Кошонкин прочел ее и подумал - пойти что ли? И пошел. Он пошел к родителям своей первой жены, умершей в молодости, двадцати восьми лет от роду и сделавшей Кошонкина - тогда тоже еще молодого - вдовцом. И про нее, про эту жену своей молодости, Кошонкин иногда помнил и вспоминал. Отрывочно, без избыточных чувств и эмоций, но вспоминал. Не потому, что потерял ее Кошонкин не воспринимал свою жизнь как цепь потерь или как цепь приобретений, он, можно сказать, никак ее не воспринимал, а если воспринимал, то как простейшую механическую смену дней и ночей, и лет. И когда не стало у него в молодости Риты, он не испытал непереносимых страданий, хотя, наверно, по-человечески было ее Кошонкину жалко. Такая молодая и закончила жить, не дожив ни до чего определенного. И дочку не вырастив и на ноги ее не поставив. Но с дочкой все логично тогда решилось и естественным образом. Ее взяли к себе жить тесть и теща Кошонкина, так как она слишком уж была похожа на свою покойную мать, а их - тестя с тещей дочь. И они воспитывали ее и думали, что это их Рита жива и здорова, растет у них на глазах и превращается постепенно из маленькой девочки в девушку во второй раз.
И вот к ним, к дочери своей от покойной жены Риты и к ее престарелым родителям, шел Кошонкин по улицам и проспектам города, а улицы и проспекты лениво кишели людьми. Люди двигались неторопливо и хаотично, во все стороны сразу, потея от влажности и жары и глядя то влево, то вправо, то прямо вперед и, похоже, ища для себя чего-то, может быть, какой-то другой, новой, незнакомой им жизни. И большинство из них, конечно, надеялось и имело твердую уверенность, что она, эта ожидаемая ими жизнь, наступит. Сразу, как только у них появится много лишних свободных денег и можно будет взять для себя все возможное от магазинов, базаров, кафе и ресторанов, одним словом, от жизни, а точнее - от радостей жизни. И они поводили в воздухе чуткими нервными носами, улавливая, откуда и куда дует ветер и что он с собой несет, и что уносит. И хотя на улицах и проспектах города, перекрытых зданиями и сооружениями, не чувствовалось никакого ветра, а стоял неподвижно зной лета, они, люди городских улиц, все равно вели себя так, как будто улавливали ноздрями самые легкие движения воздуха, самые тихие дуновения. Только Кошонкин их не улавливал и никуда не смотрел, а шел себе сквозь и все. Но что-то он перед собой, конечно, видел, видел и ничего из увиденного не оставлял в сознании, а фиксировал окружающую действительность одним лишь поверхностным зрением, как фиксирует все, находящееся перед ним, пустое в сущности зеркало. Он видел этих людей, среди которых давно уже не встречал ни единого знакомого, как будто все они - и друзья, и враги, и соученики, и сослуживцы прошлых лет - или уехали куда-то из города, или не выходили из своих домов никогда, или умерли, или изменились внешне до полной неузнаваемости, благодаря движению времени в пространстве, не проходящему бесследно ни для кого. Однажды только встретился Кошонкину знакомый человек, которого он как раз не хотел бы встретить, и видеть его лицо никогда бы не хотел. И именно этот нежелательный человек встретился как-то Кошонкину, вынырнув из уличной толпы, двигавшейся встречно и выбив тем самым Кошонкина из колеи на несколько длинных недель. Но это случилось давно, а не сейчас. Сейчас Кошонкин видел собаку, бежавшую на трех ногах вдоль бульвара с чем-то съедобным во рту. Она не могла есть на бегу, потому что сосредоточила всю себя на передвижении и на погоне. Ее догоняли другие собаки, более сильные, молодые и голодные. Они хотели отнять еду у трехногой собаки, а, возможно, она сама украла ее у своих сородичей. И поняв и убедившись, что ей не уйти, собака села и справила свою естественную собачью нужду, а еду - кость, обросшую лоскутами синеватого мяса - положила бережно на траву перед собой и подоспевшие собаки стали хватать кость зубами и, конечно, передрались, дав уйти от возмездия собаке на трех ногах в неизвестном им направлении.
А в трамвае, куда влез Кошонкин, чтобы подъехать и не идти весь путь пешком, стоял он рядом с густо татуированным гражданином. На предплечье у гражданина была наколота синяя до черноты церковь с папертью, куполом, крестом и всем остальным, и Кошонкин видел, как этот татуированный гражданин медленно поднимал руку, чтобы взяться за поручень, и церковь сначала накренилась, а потом опрокинулась и повисла крестом вниз, и поплыла вместе с рукой, сжавшей поручень и вместе с трамваем, и вместе с теми, кто в этом трамвае ехал от памятника Ленину к центральному железнодорожному вокзалу. У вокзала трамвай сделал разворот на сто восемьдесят градусов, и Кошонкин вышел из него через переднюю дверь, ничего не сказав вагоновожатой, проверявшей билеты у всех, ввиду конечной остановки маршрута. Нечего ему было сказать - проездного Кошонкин не имел и вообще никакого билета не имел, так как кондуктор в вагоне ему не встретился и деньги за проезд не потребовал. А если бы и потребовал - денег у Кошонкина не было в карманах. Куда-то они из его обихода исчезли, чего Кошонкин пока не заметил. Но это пока, это он должен был когда-нибудь заметить. Не сегодня, так завтра, не завтра, так через два или, максимум, три дня, которые еще предстояло ему как-то прожить, и он уже проживал их, идя в данный момент пешком от железнодорожного вокзала к речному порту, поскольку там невдалеке жила с родителями своей матери его дочка Лена. Он получил телеграмму, и сначала положил ее на подоконник, и она пролежала на нем какое-то количество дней, а сегодня, заметив ее и прочтя, что его просят прийти - пошел. Не затем пошел, чтоб узнать, зачем его звали, а потому, что звали. И не задумывался Кошонкин над этим вопросом - зачем. Как-то в голову ему не пришло - задуматься. И придя, тоже он не спросил - зачем его вызвали, и где находится дочь - не спросил, а сел на стул у окна и стал сидеть. А родители Риты то ходили по комнате, нося чашки для чая, то садились на диван и что-то говорили малозначащее, то опять носили из кухни все, что положено. И чай, когда он вскипел и заварился, тоже они принесли в комнату и пригласили Кошонкина к столу, и он придвинулся к нему от окна вместе со стулом, и сразу начал прихлебывать из чашки горячий чай и есть хрупкое домашнее печенье. В то время как бывшие тесть и теща рассуждали о всяких общих и мировых проблемах, и о кризисе в нашем обществе, и о перспективах его развития, и о богатом соседе, которому в восемь часов вечера, средь бела, можно сказать, дня, сломали в трех местах челюсть одним ударом, отняли все деньги и документы, и он может остаться уродом. А о себе они говорили - мы старые люди и живем по наклонной плоскости за счет инерции, накопленной за годы и годы, мы, говорили они, работали и выработали себя до предела, и обессилев, уходили на заслуженный отдых, отдыхали кто сколько мог и возвращались снова, и снова работали, и больше уже не можем, потому что пора нам начать жить в ожидании приближающегося конца. А молодые, наоборот, говорил тесть, не могут работать и жить, как жили и работали мы, их отцы и их деды, поскольку их - молодых тошнит. И особенно тошнит детей. Но и юношей, и девушек тоже тошнит. Это, говорил, прямо эпидемия какая-то, вроде СПИДа, болезнь конца века, передающаяся на нашей родине как половым, так и всеми иными путями, и мы, значит, не хотим, чтобы внучку нашу Леночку, а твою дочь родную тоже тошнило, как всех, и она не хочет этого и поэтому выходит со дня на день замуж.