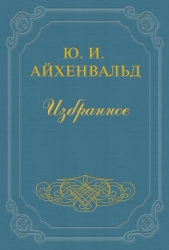Путешествие Глеба

Путешествие Глеба читать книгу онлайн
В четвертом томе собрания сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972) печатается главный труд его жизни – четырехтомная автобиографическая эпопея «Путешествие Глеба», состоящая из романов «Заря» (1937), «Тишина» (1948), «Юность» (1950) и «Древо жизни» (1953). Тетралогия впервые публикуется в России в редакции, заново сверенной по первопечатным изданиям. В книгу включены также лучшая автобиография Зайцева «О себе» (1943), мемуарный очерк дочери писателя Н. Б. Зайцевой-Соллогуб «Я вспоминаю» и рецензия выдающегося литературоведа эмиграции К. В. Мочульского о первом романе тетралогии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Снег этой осенью лег очень рано, в половине ноября. Он ровно забелил озеро, ровно осветил отсветами своими комнаты людиновского дома, придавая им новую прелесть. И такая же прелесть была в треске дров в печах, в здоровом, душистом тепле зимнего барского жилья. Опять появилась Глебова оленья шапка. Предстояли коньки, Рождество, буер. Но все это было подернуто теперь некоторой грустью. Уроки шли кое-как – Софья Эдуардовна отсутствовала. В доме было невесело. Раз, войдя в комнату наверху, где заседала Лиза с Катей Новоселовой, Глеб услыхал конец фразы: «А по-моему, это у нее просто искренняя симпатия…» В другой раз в маленькой гостиной он встретил Софью Эдуардовну – она быстро шла из столовой, где отец пил пиво, лицо ее было красно и искажено. Она обернулась, громко сказала: «Вы не можете не понимать, что мое положение здесь невыносимо…»
На другой день к уроку вовсе не вышла. К обеду явилась с заплаканными глазами.
Глеб обратился, наконец, к матери. Та была, как всегда, спокойна, сдержанна, но с ним ласкова.
– Я ничего не понимаю, – говорил Глеб, – учить мне уроки, или нет?
– Пока, сыночка, можешь и не учить. Вероятно, после Рождества к тебе приедет настоящий учитель. Он уже здесь начнет заниматься с тобой по-латыни.
– А Софья Эдуардовна?
– Ее, кажется, вызывают в Орел родные, – неестественным тоном сказала мать.
– Софья Эдуардовна могла бы учить меня всем предметам, – возразил Глеб. – Она великолепно учит. А этот еще неизвестно что…
Он взволновался и стал резко говорить с матерью. Один Глеб во всем доме и мог так держать себя. Мать не только не раздражалась, как на отца, но напротив, меняла тон на еще более мягкий. Этот мягкий тон ничего не значил. Мать была за такой же стеклянной стеной, какая отделяла столовую от синевшего озера. Из ее выражений: «Может быть, и останется», «Как захочет», «Там посмотрим», Глеб понял, что именно все уже решено и уроки кончились навсегда.
Он не ошибся. Ему не пришлось уже более заботиться о курьерах. И очень скоро наступил день, когда в приотворенную дверь Глеб увидел в огромной комнате Лизы и Софьи Эдуардовны раскрытый сундук. Сидя на полу, Софья Эдуардовна кидала туда белье. Глаза ее напухли от слез. «Я очень любила ваш дом, – говорила она Лизе, тоже заплаканной. – Но что же делать… нет, я больше не могу…»
После обеда к подъезду подали санки.
Софья Эдуардовна оделась по-дорожному, подтянулась, припудрилась. Лиза повисла было на ней, но она коротко ее поцеловала, пробормотала: «Ну, Бог даст, увидимся, пиши…» – и подошла к Глебу.
– Прощай, Herr Professor.
Глеб шаркнул и поцеловал ей ручку. В горле у него сжимало, но плакать, как Лиза, он считал ниже своего достоинства. Софья Эдуардовна, в узкой шубке, с муфтой, как тогда носили, под вуалью, быстро вышла на подъезд. Дверь за ней захлопнулась.
Глеб был недоволен и как бы лично обижен. С отцом, а особенно с матерью держался холодно. Но его детские дни продолжали свой ход в спокойной, почти роскошной жизни Людинова, и так же заметали Софью Эдуардовну, как ровный снег заносил пустыню озера. Нельзя было и вечно дуться на родителей, тем более что кроме ласки и внимания ничего от них он и не видел.
И для него, с отъездом Софьи Эдуардовны, началось опять нечто иное. Было совсем свободно, как будто пусто, точно умер кто-то – и грустно. Глеб опять более ушел в себя. Одиноко катался на коньках, бродил в парке с ружьем. Вновь с увлечением, на этот раз особенным, засел за рисование. Теперь не одни пуссэновские деревца и романтические хижины привлекали его. К Рождеству получил он в подарок альбом гоголевских типов Боклевского.
И с упорством, вниманием, внутренним волнением стал копировать разных Чичиковых, Петухов, Ноздревых. Эта работа никому не была нужна. Он никому и не показывал ее. И может быть, было смешно, что большеголовый мальчик часами сидит над носом гоголевского урода. А может быть, и не очень смешно. Во всяком случае, как настоящий художник, Глеб был убежден, что его дело – важнейшее. Какие б ни были увеселения, охоты или даже подвиги – самое замечательное это сидеть и рисовать, художеством закреплять часть бытия своего.
За окнами шел снег, наступил Новый год, Дрец налаживал буер для катанья по озеру, Катя Новоселова принесла Лизе «Исторические письма» Миртова и наперебой читали они обе «Дворянское гнездо» – все это для Глеба было уже не так важно. Он часто вспоминал Софью Эдуардовну, но ему больше всего и единственно, может быть, был нужен он сам и его собственная, для всех закрытая, а для него полная силы жизнь.
IV
Та Ока, на которой провел Глеб лучшие свои дни, омывает и Калугу. Город на высоком берегу. Тихий, белый, в церквах, садах, из-за реки от большака перемышльского и очень живописный: Собор, липы городского сада, глядящего на Оку, дома в зелени по взгорью, золотые кресты, купола… В остальном же все, как полагается. Губернатор в губернаторском доме, архиерей на подворье, полицмейстер, театр, суд, просвещение. Главная улица Никитская. Под острым углом к ней Никольская. А в точке их пересечения гимназия: один фасад на Никитскую, другой на Никольскую.
На этой Никольской, недалеко от гимназии, в небольшом доме Тарховой поселились Глеб, Лиза, Дашенька. Мать привезла всех их из Людинова – Глебу надо еще держать экзамен.
В эту осень менее всего думал он о Калуге – тихий это город, поэтический или просто сонный. Было не до того. Экзамен висел грозой. Да и вся жизнь чудодейственно переменилась. Разве это Людиново! Он здесь не охотник и не художник: городской человек. Портной Костомаров сшил ему форменный мундирчик, куртку, шинель. Появилась фуражка с серебряными лаврами, тюлений ранец. Когда Глеб надел все это, то показался себе другим – в шинели до полу не побежишь, ранец же за плечами – знак воина: там книги, тетрадки, карандаши, полное вооружение науки.
Но чтобы все это надеть, выйти в доспехах на улицу, надо еще выдержать экзамен. Пока же что, после привольной, почти роскошной людиновской жизни, приходится ютиться в домике Тарховой, видеть, как сухой ветер гонит по улице пыль и желтеющие листья, волноваться, волнение свое скрывать.
Оно достигло предела в то утро, когда приближались они с матерью к зданию гимназии. Подходили и другие мальчики. Подъехал на извозчике учитель. За парадной дверью все новое, Глебу казалось – огромное, стройное. Даже и мать, в Людинове барыня, здесь, «в большом городе», среди беспрерывного начальства, стушевывалась – да, но все-таки это уголок дорогого, любимого мира!
Мать поцеловала его, оставила одного.
По каким-то лестницам, коридорам он прошел куда надо, очутился в светлом классе. Мальчики, такие же, как он, сидели в классе за партами. Вдалеке, у зеленого стола, учителя и среди них батюшка в коричневой рясе, с наперсным крестом, в золотых очках.
Долго ждал Глеб очереди. Наконец, услыхал свое имя – много раз потом выходил на подобный зов к таким же столам, где сидели такие же чуждые и скорее враждебные люди. Теперь это было впервые.
Не чувствуя ни ног, ни сердца, ни паркета, по которому лунатически шел, остановился он у стола под зеленым сукном. О. Остромыслов глядел на него из-за очков выпуклыми глазами, очень близорукими, не страшно. Он поглаживал бороду, когда брал ручку, чтобы ставить отметку, придерживал рукав коричневой рясы. Но в сидевшем рядом худеньком, гибком старике в пенсне, лысом, с острыми чертами лица, сразу почуял Глеб ястребино-враждебное: не может инспектор гимназии быть сладковатым, округлым.
Глеб стоял совсем близко к столу. В волнении перебирал пальцами край сукна.
Инспектор смотрел на него сухими, блестевшими за пенсне глазками.
– Ты где учился?
– Д-дома…
Глеб робел и мучился за свою робость.
– Почему же тебя так плохо воспитывали?
– А… что?
– Как же это ты разводишь музыку по столу? Что это, рояль? И разве взрослым отвечают так?
Глеб был поражен. С ним разговаривают в таком тоне, будто он совершил преступление. Задевают и родителей… Он никак не считал себя невоспитанным и готов был возражать, но ничего не успел ответить: о. Остромыслов стал задавать свои вопросы. Как ни было горько, все же память заработала. В косых лучах августовского солнца, падавших из окна, Глеб довольно успешно осведомлял и о Ное, и о ковчеге, о голубе. Правда, неточно дал возраст патриархов, но о. Остромыслов поправил без раздражения. Зачем волноваться о. законоучителю? В мире все прочно, разумно, ясно. Вся эта гимназия, и город Калуга на реке Оке, и Российская Империя, первая в мире православная страна – все покоится на незыблемых скалах (и никогда с них не сдвинется) – что значит мелкая ошибка маленького Глеба! Все равно, Дарвин давно опровергнут, вечером можно будет сыграть в преферанс, послезавтра именины Капырина, все вообще превосходно.