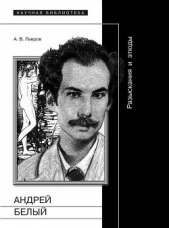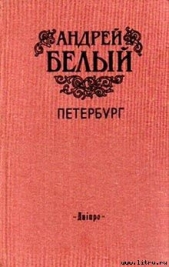Петербург. Стихотворения (Сборник)

Петербург. Стихотворения (Сборник) читать книгу онлайн
Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) – одна из ключевых фигур Серебряного века, оригинальный и влиятельный символист, создатель совершенной и непревзойденной по звучанию поэзии и автор оригинальной «орнаментальной» прозы, высшим достижением которой стал роман «Петербург», названный современниками не прозой, а «разъятой стихией». По словам Д.С.Лихачева, Петербург в романе – «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т. е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе».
Помимо «Петербурга» в состав книги вошли стихотворения А.Белого из сборников «Золото в лазури», «Пепел» и поэма «Первое свидание».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– «Да о чем же мы шепчемся?»
– «Все о том, об одном: о втором Христовом пришествии».
– «Довольно: все это вздор…»
…………………….
– «Ей, гряди, Господи Иисусе!»
Глава третья,
в которой описано, как Николай Аполлонович Аблеухов попадает с своей затеей впросак
Хоть малый он обыкновенный,
Не второклассный Дон Жуан,
Не демон, даже не цыган,
А просто гражданин столичный,
Каких встречаем всюду тьму,
Ни по лицу, ни по уму
От нашей братьи не отличный.
В одном важном месте состоялося появление, до чрезвычайности важное; появление то состоялось, то есть было.
По поводу этого случая в упомянутом месте с чрезвычайно серьезными лицами появились в расшитых мундирах и чрезвычайные люди; так сказать, оказались на месте.
Это был день чрезвычайностей. Он, конечно, был ясен. С самых ранних часов в небе искрилось солнце: и заискрилось все, что могло только искриться: петербургские крыши, петербургские шпицы, петербургские купола.
Где-то там пропалили.
Если б вам удосужилось бросить взгляд на то важное место, вы видели б только лак, только лоск; блеск на окнах зеркальных; ну, конечно, – и блеск за зеркальными окнами; на колоннах – блеск; на паркете – блеск; у подъезда блеск тоже; словом, лак, лоск и блеск!
Потому-то с раннего часа в разнообразных концах столицы Российской империи все чины, от третьего класса и до первого класса включительно, сребровласые старцы с надушенными баками и как лак сиявшими лысинами, энергично надели крахмал, как бы некую рыцарскую броню; и так, в белом, вынимали из шкафчика краснолаковые свои коробки, напоминавшие дамские футляры для бриллиантов; желтый старческий ноготь давил на пружинку, и от этого, щелкая, отлетала крышка красного лака с приятной упругостью, обнаружив изящно в мягко-бархатном ложе свою ослепительную звезду; в это время такой же седой камердинер вносил в комнату вешалку, на которой можно было увидеть, во-первых: белые ослепительные штаны; во-вторых: мундир черного лоска с раззолоченной грудью; к этим белым штанам наклонялась как лак горевшая лысина, и седой старичок, не кряхтя, поверх пары белых, белых штанов облекался в мундир ярко-черного лоска с раззолоченной грудью, на которую падало ароматно серебро седины; наискось потом обвивался он атласною ярко-красною лентою, если был он аннинский кавалер; если же он был кавалер более высокого ордена, то его искрометную грудь обвивала синяя лента. После этой праздничной церемонии соответственная звезда садилась на грудь золотую, прикреплялася шпага, из особой формы картонки вынималась треуголка с плюмажем, и седой орденский кавалер – сам блеск и трепет – в лакированной черной карете отправлялся туда, где все – блеск и трепет; в чрезвычайно важное место, где уже стояли шеренги чрезвычайно важных особ с чрезвычайно важными лицами. Эта блещущая шеренга, выровненная оберцеремониймейстерским жезлом, составляла центральную ось нашего государственного колеса.
Это был день чрезвычайностей; и он должен был, разумеется, просиять; он – просиял, разумеется.
Уже с самого раннего утра исчезала всякая темнота, и был свет белей электричества, свет дневной; в этом свете заискрилось все, что могло только искриться: петербургские крыши, петербургские шпицы, петербургские купола.
Грянул в полдень пушечный выстрел. В чрезвычайно ясное утро, из-за ослепительно белых простынь, вдруг взлетевших с кровати ослепительной спаленки, выюркнула фигурка – маленькая, во всем белом; фигурка та почему-то напомнила циркового наездника. Стремительная фигурка по обычаю, освященному традицией седой старины, принялась укреплять свое тело шведской гимнастикой, разводя и сводя руки и ноги, и далее, приседая на корточки до двенадцати (и более) раз. После этого полезного упражнения фигурка окропила себе голый череп и руки одеколоном (тройным, петербургской химической лаборатории).
Далее, по омовении черепа, рук, подбородка, ушей, шеи водопроводной свежей водой, по насыщении своего организма чрезвычайно внесенным в комнату кофе, Аполлон Аполлонович Аблеухов, как и прочие сановные старички, в этот день уверенно затянулся в крахмал, пронося в отверстие панциреобразной сорочки два разительных уха и как лак сиявшую лысину. После того, выйдя в туалетную комнату, Аполлон Аполлонович Аблеухов из шкафчика вынул (как и прочие сановные старички) свои красного лака коробочки, где под крышкою, в мягко-бархатном ложе лежали все редкие, ценные ордена. Как и прочим (меньше прочих), был внесен и ему лоск льющий мундирчик с раззолоченною грудью; были внесены и суконные белые панталоны, пара белых перчаток, особой формы картоночка, ножны черные шпаги, над которыми от эфеса свисала серебряная бахрома; под давлением желтого ногтя взлетели все десять красно-лаковых крышечек, и из крышечек были добыты: Белый Орел, соответствующая звезда, синяя лента; наконец, был добыт бриллиантовый знак; все сие село на расшитую грудь. Аполлон Аполлонович стоял перед зеркалом, бело-золотой (весь – блеск и трепет!), левой рукой прижимая шпагу к бедру, а правой – прижимая к груди плюмажную треуголку с парой белых перчаток. В этом трепетном виде Аполлон Аполлонович пробежал коридор.
Но в гостиной сенатор почему-то сконфуженно задержался; чрезвычайная бледность лица и растрепанный, вид его сына поразили, видно, сенатора.
Николай Аполлонович в этот день поднялся раньше, чем следует; кстати сказать, Николай Аполлонович и вовсе не спал эту ночь: поздно вечером подлетел лихач к подъезду желтого дома; Николай Аполлонович, растерянный, выскочил из пролетки и принялся звонить что есть сил; а когда ему отворил серый лакей с золотым галуном, то Николай Аполлонович, не снимая шинели, как-то путаясь в ее полах, пробежал по лестнице, далее – пробежал и ряд пустых комнат; и за ним защелкнулась дверь. Скоро у желтого дома заходили какие-то тени. Николай Аполлонович все шагал у себя; в два часа ночи в комнате Николая Аполлоновича еще раздавались шаги, раздавались шаги – в половине третьего, в три, четыре.
Неумытый и заспанный, Николай Аполлонович угрюмо сидел у камина в своем пестром халате. Аполлон Аполлонович, лучезарность и трепет, невольно остановился, отражаясь блеском в паркетах и зеркалах; он стоял на фоне трюмо, окруженный семьей толстощеких амуров, продевавших свои пламена в золотые венки; и рука Аполлона Аполлоновича пробарабанила что-то на инкрустации столика. Николай Аполлонович, вдруг очнувшись, вскочил, обернулся и невольно зажмурился: и его ослепил бело-золотой старичок.
Бело-золотой старичок приходился папашею; но прилива родственных чувств Николай Аполлонович в эту минуту не испытывал вовсе; он испытывал нечто совершенно обратное, может быть, то, что испытывал он у себя в кабинете; у себя в кабинете Николай Аполлонович совершал над собой террористические акты, – номер первый над номером вторым: социалист над дворянчиком; и мертвец над влюбленным; у себя Николай Аполлонович проклинал свое бренное существо и, поскольку он был образом и подобием отца, он проклял отца. Было ясно, что богоподобие его должно было отца ненавидеть; но, быть может, бренное существо его все же любило отца? В этом Николай Аполлонович вряд ли себе признался. Любить?.. Я не знаю, подходит ли здесь это слово. Николай Аполлонович отца своего как бы чувственно знал, знал до мельчайших изгибов, до невнятных дрожаний невыразимейших чувств; более того: он был чувственно абсолютно равен отцу; более всего удивляло его то обстоятельство, что психически он не знал, где кончается он и где психически начинается в нем самом дух сенатора, носителя тех вон искристых бриллиантовых знаков, что сверкали на блещущих листьях расшитой груди. Во мгновение ока он не то что представил, а скорей пережил себя самого в этом пышном мундире; что бы он испытал, созерцая такого вот, как он, небритого разгильдяя в пестром бухарском халате; это ему показалось бы нарушением хорошего тона. Николай Аполлонович понял, что почувствовал бы брезгливость, что по-своему был бы прав родитель его, ощущая брезгливость, что брезгливость ту ощущает родитель вот сейчас – здесь. Понял и то, что смесь озлобления и стыда заставила его быстро так привскочить перед белозолотым старичком: