Том 12. В среде умеренности и аккуратности
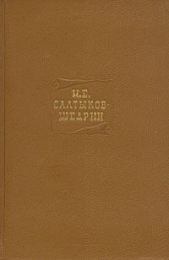
Том 12. В среде умеренности и аккуратности читать книгу онлайн
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника». Именно эти произведения и в такой последовательности Салтыков предполагал объединить в одном томе собрания своих сочинений, готовя в 1887 г. его проспект.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Такова, милостивые государи, теория оправданий, сама собой выработавшаяся на почве «виноват».
Поэтому едва ли покажется удивительным, что, прежде нежели выполнить совет Алексея Степаныча буквально, я решился заявить ему о возникших во мне сомнениях. Но, к удивлению, он выслушал мои заявления не только без обычного ему благодушия, но даже почти рассердился на меня.
— Очень уж вы набалованы, мой друг, — сказал он, — оттого вам и думается, что тут диалог какой-то произойдет: вы вопросы будете предлагать, а вам будут ответы давать. Ничего не будет — вот что! Да и какая, скажите, корысть для вас знать: за что? Ведь ежели не в том, так в другом — все-таки вы виноваты. Следовательно, что уж тут! А между тем начальство не любит вопросов, закоренелость в них видит, неспособность к исправлению. Вместо того чтоб искренно, благородно: виноват, ваше превосходительство! — а вы все с азартом да наступя на горло!
— Помилуйте, Алексей Степаныч! человек хлопочет только об том, чтоб как-нибудь поумнее предстоящее ему повреждение устранить, а вы какие-то азарты да «наступи на горло» тут припутываете!
— Ну, положим… ну, не так я выразился! А все-таки… Прежде всего, я и сам ничего не могу на ваши вопросы ответить, кроме: «не знаю!» Знаю, что нехорошо пахнет — вот и все, и будет с вас! Да и у тех, которым доподлинно известно, что и как, — и у них осведомляться вам не советую. Пользы нет — вот в чем главное. Во-первых, на ваш вопрос вы рискуете получить в ответ: здорово живешь! — будете ли вы этим удовлетворены? Во-вторых, если даже и снизойдут к вашей немощи — лучше ли вам будет, если свиток-то этот перед вами развернут, в котором, как в требнике *, против всех заповедей все грехопадения записаны, да скажут: читай! Да каяться велят да приговаривать станут: ежели не действием, так словом, а не словом — так помышлением? Да в заключение спросят: а теперь, мол, сказывайте сами, какому вы за сие возмездию подлежать должны?
— Полноте! этого нынче уж не бывает! ведь ежели и вас по требнику экзаменовать начать, так и для вас, пожалуй, на каторге места не найдется!
— Так-то так: кто богу не грешен, царю не виноват, а все-таки и эту случайность предусмотреть не мешает. Не бывает, не бывает, а вдруг и вот он-он! Прихоти-то, мой друг, оставить нужно да проще на дело смотреть!
— Так, по-вашему, лучше не любопытствовать?
— Не любопытствуй, мой друг!
— Ну, хорошо. Стало быть, и вопрос о форме повреждения тоже праздный… прекрасно! Но согласитесь, что с моей стороны все-таки никакого «наступя на горло» в этом случае не было, и что в тех условиях, в которых я нахожусь, не только позволительно, но и вполне естественно…
— В том-то и дело, голубчик, что об естественности-то об этой забыть надо. Все естественно знать: и за что, и что за сие ожидает? да сдерживать себя надо, потому что естественность-то наша строптивостью называется. А вы просто, без естественности… доверьтесь! К тому же, вы сами видите, что и начало «обстановочки» уж сделано: со всеми местами Российской империи переписка заведена. Покуда справки да ответы идут, а потом пойдут выборки да соображения — смотришь, человек-то и жив! Может, и оправданий совсем приносить не придется — так, измором все дело кончится, а вы себя загодя сомнениями да вопросами изнуряете!
— Хорошо; но как же все-таки сделать? ведь я ни одного знакомого лица в департаменте «Возмездий и Воздаяний» не имею — с какого повода, как и к кому я туда явлюсь?
— А это уж и совсем просто. Нынче, мой друг, везде свободно: всякий может прийти, даже просто с прогулки. Прийти, выкурить папиросу и уйти. Вы, как придете, спросите у сторожа, скоро ли директор будет — этого и довольно. Затем, хотите — в приемной сидите, хотите — по коридору ходите; папироску закурите — сторож и спичку даст. Покуда вы курите, около вас молодежь тамошняя соберется — сейчас и разговор промеж вас пойдет. Сколько, мол, реформ мы уже видели, а сколько таковых еще под сукном состоит! Слово за слово — и сами не заметите, как вам и об вашей реформе объявят. Да кстати и уму-разуму научат; и не просите — научат!
Советы Алексея Степаныча были настолько ясны и определительны, что на этот раз я решился последовать им слепо. На другой же день, часов около одиннадцати утра, я забрался под арку к площади * и стал ожидать чиновничьего хода. Передо мною расстилалась неоглядная пустыня, обрамленная всякого рода присутственными местами, которые как-то хмуро, почти свирепо глядели на меня зияющими отверстиями своих бесчисленных окон, дверей и ворот. При взгляде на эти черные пятна, похожие на выколотые глаза, в душе невольно рождалось ощущение какой-то упраздненности. Казалось, что тут витают не люди, а только тени людей. Да и те не постоянно прижились, а налетают урывками: появятся, произведут какой-то таинственный шелест, помечутся в бесцельной тоске и и опять исчезнут, предоставив упраздненное место в жертву оргии архивных крыс, экзекуторов и сторожей.
Чиновничий ход начался только через полчаса. Сперва повалили гольцы, пискари и плотва, повалили такою плотною массой, что улица, дотоле казавшаяся пустою, вдруг ожила. Гольцы и пискари шли резво, играючи; плотва брела сонно, словно уверенная, что крючка ей не миновать. Потом движение перемежилось, и уже в одиночку потянулись головли, караси, лини и прочая чиновничья бель. Воображение мое было так возбуждено, что я намеренно вглядывался в эти физиономии, думая уловить в них какие-либо неизгладимые черты, свидетельствующие о страсти к повреждениям. Но, к удивлению, я встретил только самую обыкновенную затасканность, сквозь которую едва-едва просачивалось озабоченное праздномыслие. Точно передо мной прошел ряд швабр, которыми уж так давно трут полы, что они утратили даже характер швабр и получили форму тощих и совершенно нецелесообразных мочалок.
Когда для меня сделалось ясным, что административная машина пущена в ход, я тоже юркнул в одну из зияющих дверей серого здания — и пропал. Но и тут воображение обмануло меня. Я думал, что и стены, и лестница, и передняя — все будет «вопиять». Ничуть не бывало! На лестнице чувствовался сильный запах упраздненности — и только; в департаментской передней пахло отчасти сторожами, отчасти бумажной червоточиной, острый запах которой проникал сюда из канцелярии.
Сторожа приняли меня как родного. Их было двое, и, по-видимому, жилось им тут отлично. Не только предупредительно, но почти с ликованием бросились они снимать с меня пальто, и глаза их смотрели при этом так ясно, как будто говорили: сейчас-с! пожалуйте! будьте знакомы! Пока я освобождался от верхнего платья, мимо меня бойко проследовал курьер его превосходительства, молодой малый, который тоже смотрел отлично. Он отнюдь не давил высокомерным сознанием своей высокопоставленности, но весело поигрывал серебряной цепочкой, пропущенной сквозь пуговицы его темно-зеленого казакина, и с какою-то чрезвычайно милою загадочностью, казалось, говорил: сегодня его превосходительство изволили утром меня спрашивать — угадайте, об чем?
— Его превосходительство… — начал было я, но один из сторожей, помоложе, даже не дал мне продолжать.
— Пожалуйте! сейчас-с! сейчас они будут! — заторопился он, словно боялся упустить меня, — уж и курьер с портфелем приехал. Полчаса, много час… А покуда не угодно ли посидеть, — продолжал он, широко растворяя передо мной дверь в приемную, — вот здесь, на диванчике… здесь покойно будет!
Новое разочарование! Я думал, что на меня со всех сторон налетят сбиры, как в «Лукреции Борджиа» *, а меня принимал в свои объятия добродушный русский солдатик, который даже шпицрутеном хлестнуть не может без того, чтоб не произнести предварительно: «господи-владычица! Успленья-матушка!»
Я встал у окна и от нечего делать начал смотреть на площадь. Налево от меня была затворенная дверь, ведущая в кабинет его превосходительства, направо — отворенная дверь, через которую виднелась обширная анфилада комнат, занимаемых канцелярией. Кабинет сурово безмолвствовал, словно боялся выдать тайну; напротив, из канцелярии доносился до меня непрерывный шум — вестник начинавшейся, но еще не установившейся канцелярской деятельности. Слышалось шарканье, хлопанье дверьми, щелканье замков, выдвигание ящиков, чирканье спичками; в нескольких местах раздавалось имя Надежды Ивановны (я вспомнил, что накануне Надежды были именинницы). Словом сказать, происходило все то, что обыкновенно происходит во всех публичных местах, вроде кофеен, трактиров, кафешантанов и проч. в те неясные минуты дня, когда «деятели» уж проснулись и принялись за чистку, но настоящая торговля еще не началась. Но ни малейшего намека ни на то, что «здесь стригут, бреют и кровь отворяют», ни на «бараний рог», ни на «Макара, телят не гоняющего» * — ничего! Тихо, мило, благородно. Площадь из окна четвертого этажа представлялась какою-то нелепою пустынею, на поверхности которой там и сям двигались, словно на одном месте топтались, крохотные черные точки; по ту сторону площади, на подоконниках казенного здания, токовала несметная масса голубей, как будто понимали умные пернатые, что нужно же какое-нибудь развлечение этому стаду праздномыслящих людей, тоскливо выглядывающих из окон всех четырех этажей.

























