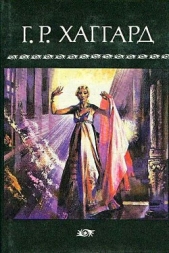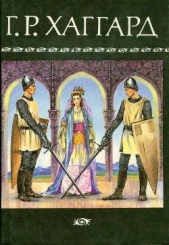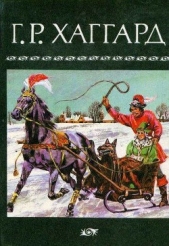Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856
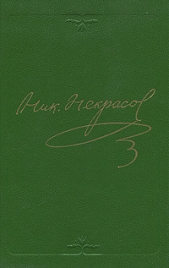
Том 8. Проза, незавершенное 1841-1856 читать книгу онлайн
В состав восьмого тома входят прозаические произведения 1841–1856 гг., в большинстве своем незавершенные и не опубликованные целиком при жизни Некрасова. К ним относятся «Жизнь и похождения Тихона Тростникова», «Сургучов», «Тонкий человек, его приключения и наблюдения», «В тот же день часов в одиннадцать утра…» — повесть, известная в литературе под условным названием «Каменное сердце» или «Как я велик!». Законченной является лишь «Повесть о бедном Климе», но и над ней, судя по рукописи и по тому, что некоторые ее главы использованы в романе о Тростникове, Некрасов продолжал работать.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
и пр.
В похвалах его старой литературе встречалось много диких и странных суждений, однако ж беседы наши не были для меня совсем бесполезны. Он знал наизусть большую часть не только Державина и Кантемира, но даже Сумарокова, Петрова и других темных стихоплетов старого времени и беспрестанно говорил тирадами из их высокоторжественных сочинений: слушая его, я несколько ознакомился с духом старой нашей литературы, с которою ознакомиться другого средства не имел, ибо их творений покупать мне было не на что.
Странностям его не было границ. Вольтера и Руссо называл он чертями, из которых один заставлял хохотать, другой плакать; оба были непримиримые враги общественного порядка и враждовали между собою во всё течение жизни и соединились но смерти в системе разрушения. С ужасом видел я, что он уже состарился навсегда в отношении к науке, мысли его остановились, для него был свет тот же, что двадцать лет назад; что не было уже живой души в этом гнилом трупе, пропахнувшем водкой, и пр.
Я старался вставать как можно ранее, чтобы захватить отставного учителя дома; садился с книгою у его кровати и неотступно просил объяснения непонятных для меня латинских оборотов, обещая ему тотчас после урока порцию водки. Память еще не совсем изменила старику: он знал довольно хорошо латинский язык и заменял мне лексикон, ибо помнил значение всех слов, встречающихся в Корнелии Непоте и Саллюстии, которых переводом я занимался. Я спешил записывать переводимые им слова и заучивал.
Около месяца продолжались мои занятия почти каждый день беспрерывно. Я был спокоен и внутренно радовался своим успехам. Но, увы! небольшая сумма, которую я имел, начала истощаться; мне уже не на что было покупать вина, и неумолимый профессор мой, несмотря на все мои просьбы, начал обращаться в бегство. Скоро дело дошло до того, что мне самому нечем было жить, и я принужден был бросить все свои занятия, чтобы приняться за какой-нибудь способ к существованию. Я делал корзинки, для. хлеба, детские игрушки, подносы и передавал их Кирьянычу для продажи. Кирьяныч, сам крепко бившийся деньгами, великодушно делился со мною последними крохами, пока было возможно. Наконец и его карман истощился. Отставной учитель уже третий день не являлся домой. Дворовый человек был уже давно при месте. В квартире оставались только мы с Кирьянычем да собака, которую Кирьяныч привел уже около недели, но за которой, против обыкновения, не явился господин в белой шляпе, навещавший прежде Кирьяныча довольно часто. Мы были в положении людей, ожидающих голодной смерти…
— Я завтра пойду по миру или залезу в карман кому-нибудь, — сказал Кирьяныч, — и как-нибудь буду сыт… а вы-то что, барин, будете делать?
— Не знаю, — отвечал я.
— Хотите ли, у нас будут деньги завтра? — спросил он.
— Каким образом?
— Попытка не мушка, а спрос не беда: только, мне кажется, тут нечего и раздумывать, — произнес с расстановкою Кирьяныч. — Вы, может быть, и рассердитесь, что я вам скажу, только уж всё скажу — мне вас жаль, да и самому с голоду умереть неохота… У меня тоже есть жена, дети… дочь… Ах, что-то они теперь делают?.. Далеко они, давно я их не видал, да вряд ли увижу. (В голосе Кирьяныча слышались слезы, которым я немало удивился.)
— Ну, что же ты хочешь сказать?
— Знаете ли, барин, чем я кормлюсь? — спросил он.
— Не знаю, — отвечал я, хотя и догадывался.
— А хотите узнать? — спросил он после некоторого молчания.
— Пожалуй, скажи.
Несколько минут продолжалось молчание, в продолжение которого ежовая голова вздохнул несколько раз.
— Уж коли говорить, так уж всё говорить! — сказал наконец Кирьяныч. — Послушайте, барин, что я вам расскажу.
— Говори, брат. Да ты что-то очень печален. Полно крушиться. Бог милостив!
— Не для нас! — сказал Кирьяныч. — Ну, слушайте.
И затем Кирьяныч рассказал мне историю, которую я передаю читателям без всяких изменений…
— Вы не подумайте, — начал Кирьяныч, — я не всегда был таким замарашкой, серокафтанником, как теперь. У меня дом первый во всем селе: ставни крашеные, ворота резные; сам барин езжал ко мне в гости по праздникам, и уж всякого вина заморского и яства вкусного было вдоволь. У нас уж такой обычай: крестьяне летом в деревне не живут, а ходят на чужую сторону оброк добывать. Я ходил в Питер лет пятнадцать, по каменному мастерству. Деньжонок у меня скопилось немало: сотни три, четыре каждый год оставалось; набрал я артель и сделался подрядчиком; синий кафтан стал носить; сам уж и не работал: только подряды снимал да похаживал с палочкой около рабочих; там присмотришь, тому покажешь, на того покричишь; известное дело. Господь благословил меня в первый год: я получил после дувану (дуван — дележка общей заработки) тысяч пятнадцать барыша чистоганом. Пришел домой крепостной, а на другой год в Питер воротился — человек вольный: шесть тысяч барину внес за себя; откупился со всем семейством. Набрал артель человек в шестьдесят; каждому задатку дал по сту и больше рублев; снял работу — казармы поставить.
Поставили — всё как следует, только бы кончить да деньги получить; прихожу к полковнику — деньги прошу. «Нет, братец, денег; не вышли еще». Жду месяц, другой — и опять иду: тот же ответ — подожди. Я, знаете, и говорю: «У меня артель не ждет, ваше высокоблагородие; зима наступает; рабочие домой собираются, просят расчету, будьте отец родной, не задержите!» — «Пошел вон! — ~ закричал полковник. — Смеешь еще говорить! Коли стал умничать — нет тебе ни копейки; жди», — говорит. Я всё прошу, пристаю, ну, знаете, нужда приспичила. А он пуще сердится. «Бездельник, — говорит, — еще грубить стал; коли так — нет тебе ни копейки! Работа, — говорит, — твоя никуда не годится. Печи скверные… — и пошел, и пошел! — Завтра же, — говорит, — на твой счет всё велю переделывать. Да еще в тюрьму тебя засажу». Ну, думаю, пропала моя головушка — не видать мне моих денежек. Заплакал и пошел вон. А дома рабочие проходу не дают: напасть, да и только! Гляжу: работу мою ломают; другого подрядчика наняли; рабочие подали на меня жалобу; платиться нечем; посадили меня в тюрьму. Просидел Шесть месяцев, словно колодник какой, — выпустили: ни денег, ни одежонки; кто ни встретится на улице — стыдно в глаза взглянуть: не должен ли де ему, думаешь! Хотел идти домой — совесть не подняла; был подрядчик, а теперь приду гол-голехонек, хуже нищего. Стал работать поденщиной; что заработаю в день, то и пропью вечером, погляжу, а уж мне и работы не дают: ненадежен, говорят, шибко больно хмелем зашибается! Есть нечего; жить негде; стал на мосту, прошу милостыни, как нищий; ну, всякий стыд потерял, наберу гривны две — и в кабак; ну, разумеется, горе берет: с горя надобно выпить. Так, бишь, месяца два; мимо мосту, где я стоял, часто ходил господин, вот вы его, может быть, у меня видели — в белой шляпе; каждый раз подавал мне пятак либо грош и всё так жалостно на меня смотрел, расспрашивал. Раз идет мимо меня; я уж был впропьяни. «Батюшка, подайте гривенку, Христа ради!» — говорю ему. Он стая против меня, посмотрел в глаза и говорит: «Хочешь ли, Кирьяныч, целковый рубль получить?» — «Отчего не хотеть, как пе хотеть, — отвечаю ему, — я и гривне рад бы теперича, не токмо что целковому». — «Ну так ступай за мной», — сказал он. Я пошел. Пришли в Гороховую, к большому богатому дому. «Видишь этот дом?» — спросила белая шляпа. «Вижу». — «Тут, — говорит, — выбегает к воротам собачка небольшая, коричневая, с курносым носиком, — моська, что ли, — он назвал ее, — ты, — говорит, — подстереги собачонку, поймай, чтобы никто не видел, да ко мне и представь; право, целковый получишь, вот и задатку гривенник». — «А где вашу милость найти?» — говорю ему. «Стой, — говорит, — где всегда стоишь: я уж тебя найду сам». Украл я собачку, отдал барину, целковый получил. На другой день белая шляпа опять ко мне. Опять указал дом, поставил на месте: «Стереги, — говорит, — выбежит — поймай и тащи ко мне». Исполнил и опять целковичек получил. Белая шляпа мной не ухвалится. «Чем по миру-то тебе ходить, лучше, — говорит, — промыслом заниматься. Где ты, братец, живешь?.. Я к тебе стану сам заходить, только ты не зевай; как где у богатого дома заметишь — высунулась собачонка, — хватай и в кошель; или за господином каким идет да отстанет; я тебе по целковому за каждую буду давать». С тех пор я только тем и занимался; кучу собачонок перетаскал; белая шляпа иную возьмет, а иную и нет. Долго я думал, на что барину собачонки, да наконец один человек — тоже из наших, забулдыга такой, — надоумил меня. «Есть, — говорит, — господа, которые собак держат и очень любят. Ну, разумеется, пропадет собачонка, он рад и двадцать рублей, и больше дать, только бы нашлась… что богатому человеку двадцать рублей — плевое дело! Объявит тотчас через газеты — глядь к нему и несут». Так вот, барии, этот господин-то больно меня обижает — мало денег дает, да вот уж теперь и совсем не ходит, да и придет, так не пущу — лучше же это вам пойдет; что вам стоит газеты пробежать, приметы сличить, — а между тем на хлеб-то нам и будет. Ну что же, барин, идет, что ли?