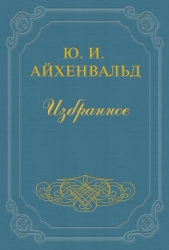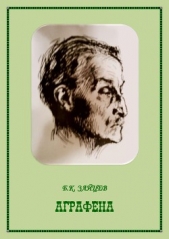Земная печаль

Земная печаль читать книгу онлайн
Настоящее издание знакомит читателя с лучшими прозаическими произведениями замечательного русского писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881 —1972). В однотомник вошли лирические миниатюры, рассказы, повести, написанные в 1900-х — начале 1950-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тогда она пала на колени, и внутреннее видение осенило ей душу; вся жизнь явилась ей в одном мгновении; все любви и муки понялись одинокими ручьями, сразу впавшими в безмерный и божественный океан любви, и данными ей как таинственные прообразы Любви единой и вечной. Из‑за знакомых, дорогих когда‑то лиц, к душам которых ее душа была прилеплена земной основой, восходя небесной к небу, выплыло новое, потопляющее всех единым светом Лицо, принимающее в сверхчеловеческое лоно.
«Господи, Господи, ты явился мне, ты все у меня взял, вот я нищая перед тобой, но я познала тебя в великой твоей силе, Господи, я вижу твою славу, Господи, возьми меня, я твоя, я тебя люблю».
В эти минуты она познала свою жизнь до последнего изгиба, приняла ее и сознала, что на той высоте, куда взнесло ее сейчас божественное дуновение, жить она больше не может.
Весь тот день, весь вечер провела Аграфена молча. Строго, торжественно было в ее душе.
Она умылась, одела чистую белую рубашку и легла на ночь, скрестив руки. Теперь она знала все и ждала.
Пред зарей закричали петухи. Стало сереть, серебриться, дымно–розоватые пятна выступили над садами. Улица была тиха. Спали собаки, куры; пыль в серебре росы лежала на улице толстым слоем.
Тогда сквозь утреннее безмолвие не спавшая Аграфена услыхала приближение. Повернув голову, так, что стал виден угол переулка, она заметила, что, не подымая уличной пыли и не будя собак, под молчащими ветлами к ней идет черная фигура. Она ее узнала. И еще ступенью ровнее стало в ее душе. Монахиня приближалась. В руках держала сосуд: «Здравствуй, раба Аграфена». — «Здравствуй». — «Готова ли?» — «Готова». Монахиня ей поклонилась. «Вкуси». Аграфена медленно приподнялась, припала губами к чаше и долго пила. «Слышишь ли мою сладость? Идешь ли?» — «Слышу, — ответил наполовину не ее голос. — Иду».
Монахиня подала ей руку, она взяла ее — медленномедленно затянулось все туманными завесами, как бы сменялись великие картины, бренные на вечные, и чей‑то голос сказал: «Вот идет та, которую называли бедным именем Аграфены, вкусить причастия вечной жизни».
Это были последние слова.
Из книги СНЫ

МОЙ ВЕЧЕР [94]
Боже мой, когда же все это кончится? — Я села у окна, в своей комнате, и смотрела тупо на позлащенный луною узор инея. В нем играли, блестя, огоньки.
Ну, жизнь! Как нарочно все складывалось против меня. Даже сегодняшняя ссора с Олей. Я знаю ее характер, ей хотелось пойти в синематограф, я не позволила; она стала ворчать. Тогда я сказала ей резкость, и она обиделась. Завтра весь день будет дуться. Таня не хочет на праздник готовиться по–немецки, между тем она ничего не знает; даже не умеет проспрягать вспомогательного глагола.
Впрочем, это, конечно, мелочи. Есть вещи хуже. Где сейчас, например, Андрей? С ним в дурных отношениях мы уже неделю. Что — неделю! Мы устали, измотались, раздражаем друг друга постоянно.
Сесть бы в вагон, чтобы Андрюша был добрый, сесть и махнуть в Ниццу, в экспрессе, понюхать цветов, море поглядеть, а весной пожить в Тоскане…
Я улыбнулась, поняла, как я глупа. Где же будут Таня, Оля? Как Андрею уехать? Нет, это далеко. Я встала с кресла, в полумгле, медленно прошлась вальсом. В зеркальном шкафу бледно проплыло что‑то — это мое отражение. Я приблизилась. Ничего себе; волосы устроены неважно, платье более чем домашнее. Если бы меня подобрать, приодеть, я могла бы сойти кой за что. «Для кого? — я вспомнила Андрея. — Стоит ли?» Но мне хотелось танцевать, что‑то пронзительное, тургеневское, старый вальс, и, танцуя, заплакать.
В этом странном настроении застала меня Маруся. Она явилась неожиданно, в декольте, вся в духах, и кинулась меня целовать.
— Ты откуда это?
Я была немного удивлена, но Марусю я люблю за красоту и ласковый нрав и была рада ее приходу.
— Ангел, милая, едем!
— Да куда?
— В собрание.
— Ну?
— На бал.
Маруся хохотала, визжала, бросалась на колени. По ее глазам я догадалась, что она влюблена. Дело просто: на балу будет «он», а одной ехать неудобно. Я уж знаю, что меня зовут, когда надо устраивать чьи‑нибудь чужие дела.
— Слушай, — спросила я, — ты знаешь ланнеровские вальсы? [95]
— Ланнеровские? — Маруся захохотала. — Да это старье какое‑то, кажется, совсем не интересно.
— Ну нет, если будет ланнеровский вальс, я поеду, а то нет.
— Будет, будет, милая моя, золотая, серебряная. — Маруся ловко вытянулась в длину по ковру и стала целовать мне руки. — Хорошая, любимая, будут какие хочешь, только едем.
Я поколебалась немного и вдруг решила. Едем. Я давно уже не выезжала. Семейные дела, огорчения, холодность Андрея парализовали меня. Между тем девушкой я любила танцы; даже с Андреем познакомилась на весеннем балу у предводителя. И когда сейчас Маруся помогала мне одеться, я заволновалась старыми волнениями, и мое сердце защемило: отчего не будет там Андрея, отчего он обо мне не думает, и не влюблен так нежно, как хотелось бы? Я вздохнула.
— Сию минуту, дуся, мгновение!
Маруся застегивала мне платье и думала, что я соскучилась. Счастливые всегда глупы.
Около одиннадцати мы катили в санках. Было морозно, от луны все туманилось. Хрустел снег, что‑то рождественское было в вечере, мне вспомнились стихи: «И месяц с левой стороны сопровождал меня уныло» [96]. Почему это я все думаю о Тургеневе, Пушкине?
— Ну, я буду твоей мамашей, — я смеялась, когда мы всходили по лестнице собрания. — Буду сидеть в уголке, дремать, разговаривать со старыми дамами о болезнях и судачить.
— Не ломайся, — сказала Маруся весело, — не люблю.
В проходе я взглянула в зеркало: нет, шея у меня неплохая, бело–матовая, черное платье с розой; все‑таки порода есть.
Белые колонны, золотой свет, бледные плечи дам, духи — все это казалось свежим, тонким и молодящим. Что-то зеркальное сияло вокруг.
— Ну, где же твой хахаль? — спросила я.
— Как ты сказала?
— Хахаль.
Маруся закатилась.
— Ты думаешь, я кухарка… ку–хар‑ка, — она тряслась от хохота, — к которой ходит ку–м пожар–ный?
«Опять смех от счастья», — подумала я и позавидовала.
— В слове «хахаль» нет ничего смешного.
Мамашей в тот вечер мне действительно не пришлось быть. Видимо, благодаря Марусе меня приглашали какие-то юные, полузнакомые лицеисты, штатские, и я танцевала много. Я думала об Андрее, но послушно исполняла, что требовалось; опять меня преследовали литературные воспоминания. Если бы я была Наташей, и вдруг у колонны увидела бы князя Андрея, в белом адъютантском мундире…
— Проведите меня в гостиную.
Ловко лавируя, правовед вальсом двигался к дверям; на пороге откланялся. Я одна вступила в зеленоватый мрак; здесь горели лишь две лампочки по углам, затянутые тюлем. Подойдя к окну, старинному, с полукругом наверху, я стала за портьерой и взглянула в сад. Тихо струилось и переливало что‑то на снегу под луной. Знаете ли вы эти вечера, под Новый год, когда веришь, что обаятельные виденья могут посетить душу? Когда снова возможна девическая любовь, к Наташе явится князь Андрей в белом адъютантском мундире?
Я стояла довольно долго, потом отошла. «Ну, что же, помечтала, поплясала, пора домой. Все‑таки вечер прошел, даже лучше он прошел, чем можно было ждать».
И с покойным сердцем я стала пробираться к выходу. В проходе меня стеснили, я должна была переждать, и случайно мой взор упал на подножие двух колонн. Спиной ко мне, во фраке, тоньше и моложе обыкновенного, стоял Андрей. Я вздрогнула; он обернулся; по усталому, как мне показалось, лицу прошла улыбка.
— Ты здесь? Вот неожиданно!