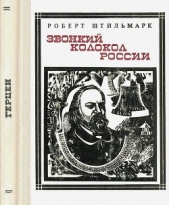Былое и думы.(Предисловие В.Путинцева)

Былое и думы.(Предисловие В.Путинцева) читать книгу онлайн
Писатель, мыслитель, революционер, ученый, публицист, основатель русского бесцензурного книгопечатания, родоначальник политической эмиграции в России Александр Иванович Герцен (Искандер) почти шестнадцать лет работал над своим главным произведением — автобиографическим романом «Былое и думы». Сам автор называл эту книгу исповедью, «по поводу которой собрались… там-сям остановленные мысли из дум». Но в действительности, Герцен, проявив художественное дарование, глубину мысли, тонкий психологический анализ, создал настоящую энциклопедию, отражающую быт, нравы, общественную, литературную и политическую жизнь России середины ХIХ века.
Роман «Былое и думы» — зеркало жизни человека и общества, — признан шедевром мировой мемуарной литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И Гарибальди, уезжая, сказал:
— Я еду с тяжелым сердцем: я на него не имею влияния, и он опять предпримет что-нибудь до срока!
Гарибальди угадал, не прошло года, и снова две-три неудачные вспышки; Орсини был схвачен пиэмонтскими жандармами, на пиэмонтской земле, чуть не с оружием в руках, в Риме открыли один из центров движения, и та удивительная организация, о которой я говорил, [802]разрушилась. Испуганные правительства усилили полицию; свирепый трус, король неаполитанский, снова бросился на пытки.
Тогда Гарибальди не вытерпел и напечатал свое известное письмо. «В этих несчастных восстаниях могут участвовать или сумасшедшие, или враги итальянского дела». (14)
Может, письма этого и не следовало печатать. Маццини был побит и несчастен, Гарибальди наносил ему удар… Но что его письмо совершенно последовательно с тем, что он мне говорил и при мне — в этом нет сомнения.
На другой день я отправился к Ледрю-Роллену — он меня принял очень приветливо. Колоссальная, импозантная фигура его — которой не надобно разбирать en detail, [803]— общим впечатлением располагала в его пользу. Должно быть, он был и bon enfant и bon vivant. [804]Морщины на лбу и проседь показывали, что заботы и ему не совсем даром прошли. Он потратил на революцию свою жизнь и свое состояние — а общественное мнение ему изменило. Его странная, непрямая роль в апреле и мае, слабая в Июньские дни — отдалила от него часть красных — не сблизив с синими. Имя его, служившее символом и произносимое иной раз с ошибкой [805]мужиками, но все же произносимое, — реже было слышно. Самая партия его в Лондоне таяла больше и больше, особенно когда и Феликс Пиа открыл свою лавочку в Лондоне.
Усевшись покойно на кушетке, Ледрю-Роллен начал меня гарангировать.
— Революция, — говорил он, — только и может лучиться (rayonner) из Франции. Ясно, что, к какой бы стране вы ни принадлежали, вы должны прежде всего помогать нам — для вашего собственного дела. Революция только может выйти из Парижа. Я очень хорошо знаю, что наш друг Маццини не того мнения, — он увлекается своим патриотизмом.Что может сделать Италия с Австрией на шее и с Наполеоновыми солдатами в Риме? Нам надобно Париж, Париж — это Рим, Варшава, Венгрия, Сицилия, и, по счастью, Париж совершенно готов — не ошибайтесь — совершенно готов! Революция сделана — la revolution est faite: cest clair (15) comme bonjour. [806]Я об этом и не думаю, я думаю о последствиях, о том, как избегнуть прежних ошибок…
Таким образом он продолжал с полчаса и вдруг, спохватившись, что он и не один и не перед аудиторией, добродушнейшим образом сказал мне:
— Вы видите, мы с вами совершенно одинакого мнения.
Я не раскрывал рта. Ледрю-Роллен продолжал:
— Что касается до материального факта революции, — он задержан нашим безденежьем, средства наши истощились в этой борьбе, которая идет годы и годы. Будь теперь, сейчас в моем распоряжении сто тысячфранков — да, мизерабельных [807]сто тысяч франков — и послезавтра, через три дня революция в Париже.
— Да как же это, — заметил я, наконец, — такая богатая нация, совершенно готовая на восстание, не находит ста, тысяч, полмиллиона франков.
Ледрю-Роллен немного покраснел, но, не запинаясь. отвечал:
— Pardon, pardon, вы говорите о теоретических предположениях —в то время как я вам говорю о фактах, о простых фактах.
Этого я не понял.
Когда я уходил, Ледрю-Роллен, по английскому обычаю, проводил меня до лестницы и еще раз, подавая мне свою огромную, богатырскую руку, сказал:
— Надеюсь, это не в последний раз, я буду всегда рад… Итак, au revoir. [808]
— В Париже, — ответил я.
— Как в Париже?
— Вы так убедили меня, что революция за плечам» что я, право, не знаю, успею ли я побывать у вас здесь.
Он смотрел на меня с недоумением, и потому я поторопился прибавить:
— По крайней мере я этого искренно желаю — в этом, думаю, вы не сомневаетесь.
— Иначе вы не были бы здесь, — заметил хозяин, и мы расстались.
Кошута в первый раз я видел собственно во второйраз. Это случилось так: когда я приехал к нему, меня (16) встретил в парлоре [809]военный господин, в полувенгерском военном костюме, с извещением, что г. губернаторне принимает.
— Вот письмо от Маццини.
— Я сейчас передам. Сделайте одолжение. — Он указал мне на трубку и потом на стул. Через две-три минуты он возвратился.
— Господин губернаторчрезвычайно жалеет, что не может вас видеть сейчас, он оканчивает американскую почту…впрочем, если вам угодно подождать, то он будет очень рад вас принять.
— А скоро он кончит почту?
— К пяти часам непременно.
— Я взглянул на часы — половина второго.
— Ну, трех часов с половиной я ждать не стану.
— Да вы не приедете ли после?
— Я живу не меньше трех миль от Ноттинг-Гиля. Впрочем, — прибавил я, — у меня никакого спешного дела к господину губернатору нет.
— Но господин губернатор будет очень жалеть.
— Так вот мой адрес.
Прошло с неделю, вечером является длинный господин с длинными усами — венгерский полковник, с которым я летом встретился в Лугано.
— Я к вам — от господина губернатора: он очень беспокоится, что вы у него не были.
— Ах, какая досада. Я ведь, впрочем, оставил адрес. если б я знал время, то непременно поехал бы к Кошуту сегодня — или… — прибавил я вопросительно, — как надобно говорить, к господину губернатору?
— Zu dem Olten, zu dem Olten, [810]— заметил, улыбаясь, гонвед. — Мы его между собой всё называем der Olte. Вот увидите человека!.. такой головы в мире нет, нe было и… — полковник внутренне и тихо помолился Кошуту.
— Хорошо, я завтра в два часа приеду.
— Это невозможно, завтра середа, завтра утром старик принимает одних наших, одних венгерцев.
Я не выдержал, засмеялся, и полковник засмеялся.
— Когда же ваш старик пьет чай?
— В восемь часов вечера. (17)
— Скажите ему, что я приеду завтра в восемь часов, но, если нельзя, вы мне напишите.
— Он будет очень рад — я вас жду в приемной.
На этот раз, как только я позвонил, длинный полковник меня встретил, а короткий полковник тотчас повел в кабинет Кошута.
Я застал Кошута, работающего за большим столом; он был в черной бархатной венгерке и в черной шапочке; Кошут гораздо лучше всех своих портретов и бюстов; в первую молодость он был, вероятно, красавцем и должен был иметь страшное влияние на женщин особенным романически задумчивым характером лица. Черты его не имеют античной строгости, как у Маццини, Саффи, Орсини, но (и, может, именно поэтому он был роднее нам, жителям севера) в печально кротком взгляде его сквозил не только сильный ум, но глубоко чувствующее сердце; задумчивая улыбка и несколько восторженная речь окончательно располагали в его пользу. Говорит он чрезвычайно хорошо, хотя и с резким акцентом, равно остающимся в его французском языке, немецком и английском. Он не отделывается фразами, не опирается на битые места; он думает с вами, выслушивает и развивает свою мысль, почти всегда оригинально, потому что он свободнее других от доктрины и от духа партии. Может, в его манере доводов и возражений виден адвокат, но то, что он говорит, — серьезно и обдуманно.
Кошут много занимался до 1848 года практическими делами своего края; это дало ему своего рода верность взгляда. Он очень хорошо знает, что в мире событий и приложений не всегда можно прямо летать, как ворон, что факты развиваются редко по простой логической линии, а идут, лавируя, заплетаясь эпициклами, срываясь по касательным. И вот причина, между прочим, почему Кошут уступает Маццини в огненной деятельности, и почему, с другой стороны, Маццини делает беспрерывные опыты, натягивает попытки, а Кошут их не делает вовсе.