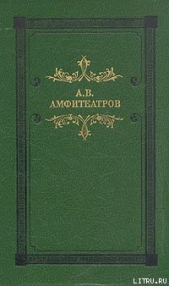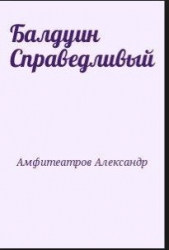Отравленная совесть

Отравленная совесть читать книгу онлайн
Вначале журналистской и писательской деятельности опубликовал Амфитеатров роман «Людмила Верховская» (1890; после переработки «Отравленная совесть», 1895, экранизирована в 1995 году....– Иного и схватишь, – – нет, скользок, как угорь, вывернется, уйдет в мутную воду. Закон – – дело рук человеческих, а преступление, как изволите вы совершенно правильно выражаться, дело природы. Закон имеет, следовательно, рамки, а преступление нет. Закон гонится за преступлением, да не всегда его догоняет.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Часы указали Людмиле Александровне близость возвращения мужа и детей.
"Господи! Вот они вбегут в комнаты... обрадуются, зашумят, а я первым словом в ответ на их ласки: прости меня, Степан! простите, дети! Я опозорила вас, я -- убийца Ревизанова!.. Побледнеют розовые личики детей, умолкнет резвый смех. "Мама! мама! Что ты с собою, что ты с нами сделала?!" И опять -- за что? за что?"
Закрыв глаза, она все-таки продолжала мысленными очами видеть перед собою их -- свою семью; они разбежались от нее, прижались по углам, и она стоит одна, среди кабинета, бессильная, покинутая, жалкая.
"Но ведь будет всего один миг страдания: выстрел вот из этого револьвера, что лежит на столе у Степана Ильича, и я еще не успею оценить своего несчастья и сиротства, а пуля уже пробьет мое сердце: я не промахнусь...
А если промахнусь? Если затем последует не смерть, а только болезнь? Преступная и больная! Разбитая душа в разбитом теле... Отравленная совесть в израненной груди! Нет, лучше покончить теперь, без детей; спокойно, не торопясь, написать записку Степану Ильичу и..."
Она взялась за перо и снова оставила его, обуянная новым сомнением. Сомнения нарождались так быстро, в такой частой смене, и овладевали ею так повелительно, что она терялась -- которое из них слушать. Едва нарастало одно, как из-за него уже выдвигалось черною тучею другое -- и закрывало первое, заставляя забыть о нем своею новою внушительною важностью.
"А если они не поверят мне? У меня нет доказательств на себя. Теперь в ходу объяснять всякую странность аффектом, внезапным острым помешательством. Наконец, если и поверят, кто поручится мне -- даст ли Степан Ильич ход записке, захочет ли он принять позор на свое имя? Он человек гуманный, честный, но -- разве я не скрыла бы его преступления, будь он на моем месте? А ведь и про меня говорили, что я гуманная и честная!.. Уничтожить клочок бумаги недолго и нетрудно, и тогда та несчастная..."
Дети пришли.
Они ворвались, как и ожидала Людмила Александровна, шумно, радостно. Леля кричала: "Мама! Мама! Милая! солнышко!" -- и висла у матери на шее. И мать инстинктивно прижимала ее к своему сердцу.
"Я мараю ее своим прикосновением! -- скользнула ядовитая мысль в ее уме, но другая ответила: -- Ну и пусть мараю, но я слишком ее люблю, я не властна не ласкать ее".
И она не оттолкнула девочку от себя и, осыпая ее ласками, одно мгновение ничего не помнила, кроме этих детей и долгого счастья, какое до сих пор давали они ей, а она им. А когда она опомнилась от восторгов первой встречи, было уже поздно. Она снова испытала на одну минуту, чем сладка жизнь, и радость семьи заглушила в ней голос справедливости. Долг смерти ушел куда-то далеко -- во мрак, его породивший. Жизнь победила.
XXIV
Леони доказала свое alibi, и ее оставили в покое. Это отчасти умиротворило совесть Людмилы Александровны. Оставалось жить.
Жить -- для семейного счастья, едва не ускользнувшего от нее. Она успела удержаться за край его -- успела ценою малодушия, подлости, едва не перешедшей в новое преступление. Теперь надо было сберечь его. Оно могло рухнуть только с раскрытием тайны убийства. В относительно спокойные, рассудочные минуты, взвешивая свое положение, Верховская обстоятельно доказывала себе, что, если она сама не выдаст себя, убийство Ревизанова останется навсегда загадкою. А между тем тайная боязнь быть выслеженною всегда жила в ней, и охранение себя от этой опасности стало господствующею идеею всей ее жизни. Не судили люди -- она судила себя сама. Не уличал суд -- сама себя уличала и казнила. Кто-то сказал: если человек хочет сделать свою жизнь постылою, пусть наполнит ее, вместо всякого другого содержания, трепетом за свое существование и заботами самосохранения. Людмила Александровна тяжелым опытом проверяла справедливость этой мысли.
Подобно тому, как раньше преступление отравило ее прошлое и лишило ее воспоминаний, теперь оно мстило ей уже и в настоящем, просочившись незримым ядом в каждую подробность ее жизни. Вначале она ни словом не заикалась об убийстве, ставшем надолго и прочно предметом толков всей столицы; но когда она бралась за газету, она думала: "Нет ли новых известий по моему делу?" Когда спрашивала гостя: "Что нового?" -- она и боялась, и ждала слышать новый акт или хоть явление следственной драмы. И если ей удавалось разузнать что-либо, ее воображение начинало работать над дальнейшими шагами следствия, вкрадчиво лепя сцену за сценой, подробность за подробностью. Так как она знала весь ход дела с начала до конца, то инстинктивно подсказывала себе эти шаги и терялась при сознании кажущейся легкости, с какою, по-видимому, раскрывалось преступление. Она забывала, что следователь, если даже попадет на прямой путь, как она сама вела розыск в своем воображении, все-таки будет идти по нем с закрытыми глазами, на ощупь, и -- сто шансов против одного, что ничего не добьется.
Она почти не спала. "Макбет зарезал сон, души отраду, но с этих пор не спать уже Гламису, не спать убийце". Целые ночи пролеживала она навзничь, с широко открытыми во тьме глазами, и перед нею мелькали то призраки кровавого прошлого, то неутешительные образы будущего. К утру она доходила до такого возбуждения, что, проснись Степан Ильич и спроси жену: "Отчего ты не спишь"? -- Людмила Александровна рассказала бы ему все. Но он не спрашивал, а только жалел ее за бессонницу да советовал лечиться.
Она начала интересоваться чужими преступлениями, потому что хотела знать, как вели себя другие в ее положении. Она перечитала десятки уголовных процессов. Везде и всегда убийцы запутывали свои следы, как могли и умели, и все-таки их выслеживали, судили, карали. Она читала дела, обставленные настолько ловко, что ее преступление казалось детски простым в сравнении с ними, и все-таки герои этих дел шли на эшафот, на галеры, в каторгу -- и чем больше читала, тем более уверялась она, что и ее рано или поздно откроют.
Елена Львовна, в бытность Людмилы Александровны в деревне, заметила своим материнским оком, что с племянницею творится что-то недоброе. Замечали это и домашние. В письмах от Верховских Елена Львовна читала неясное недовольство чем-то -- словно все смущенно скрывают нечто непривычное и неприятное.
-- Перессорились они там, что ли, все? да из-за чего им? -- недоумевала старуха. -- Или, сохрани Бог, не худо ли пошли дела у Степана Ильича?
Не желая мучиться беспокойством за близких и любимых людей, она собралась -- кстати, надо было и по делам -- в Москву.
Дом Верховских она застала действительно в полном расстройстве -- точно обезматочивший улей. Поведение Людмилы Александровны в последние дни было настолько необычно, слова ее и действия носили неизменный отпечаток такой раздражительной и беспричинной нервности, что муж и дети начали подозревать в ней серьезную, если не психическую, то нервную, болезнь.
-- И давно, Лидочка, началось это? -- пытала Елена Львовна старшую дочку Верховской.
-- С того самого дня, как мама вернулась от вас, бабушка. Она приехала с вокзала и никого не застала дома: мы с Лелей были в гимназии, Митя тоже, папа на службе, в банке. Приходим, -- обрадовались, стали ее целовать, обнимать, тормошить, и она тоже рада, целует нас, а потом бух!.. упала на ковер: истерика! хохочет, плачет, говорит бессвязно... Больше двух часов не приходила в себя.... Раньше этого никогда не было.
-- В детстве случалось, -- задумчиво заметила Елена Львовна, очень удивленная тем, что слышала: так мало было это в характере Верховской. Ей случалось много раз видать Людмилу Александровну в трудные и печальные минуты ее жизни: когда опасно болели дети, когда, после одного колебания бумаг на бирже, Степан Ильич едва не потерял всего состояния, и всегда она поражалась самообладанием племянницы.